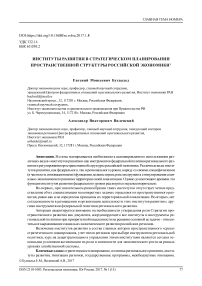Институты развития в стратегическом планировании пространственной структуры российской экономики
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич, Виленский Александр Викторович
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности
Статья в выпуске: 1 (15), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье подчеркивается необходимость целенаправленного использования различных видов «институтов развития» как инструментов федеральной политики регионального развития и регулирования пространственной структуры российской экономики. Различные виды институтов развития, как федерального, так и регионального уровня, наряду со своими специфическими (в частности, инновационными) функциями должны играть роль инструмента стимулирования социально-экономического развития территории своей локализации. Однако до настоящего времени эта функция институтов развития федерального уровня реализуется неудовлетворительно. Во-первых, при значительном разнообразии таких институтов отсутствует четкое представление об их специализации на конкретных задачах отраслевого и пространственного развития, равно как и не определены принципы их территориальной локализации. Во-вторых, нет согласованности в размещении и организации деятельности этих институтов развития с другими инструментами федеральной политики регионального развития...
Стратегическое планирование, политика регионального развития, институты развития, типизация регионов, государственные программы, межбюджетные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/149131170
IDR: 149131170 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.1.8
Текст научной статьи Институты развития в стратегическом планировании пространственной структуры российской экономики
DOI:
Институты развития: сложная история и проблемные перспективы. 10–15лет назад в хозяйственную практику страны вошел новый термин – «институты развития» (ИР), под которым понимаются организации, создаваемые в качестве инструмента экономической политики государства в ее различных направлениях. Однако в некоем прообразе эти институты появились много ранее. Уже в конце 1980-х гг. в СССР началось создание разного рода «свободных» и «особых» зон, которое еще более ускорилось по мере развертывания российских реформ 1990-х годов. В этот период, по оценкам некоторых исследователей [4], та или иная форма зонирования охватила до трети территории страны, что стало реально угрожать единству ее экономического пространства, не говоря уже об огромных потерях для бюджетов всех уровней.
Наибольшая активность по созданию зон оффшорного типа приходится на середину 1990-х годов. Старейшими из них являются учрежденные в 1994 г. зона экономического благоприятствования «Ингушетия» и зона льготного налогообложения в Республике Калмыкия. Позже возникли и в разное время существовали внутренние оффшоры в Алтайском крае (СЭЗ «Алтай», г. Барнаул), в городах Центральной России (Углич, Курск), в Шаховском районе Московской области, в районах Новгородской и Калужской областей. Все эти специальные или «особые» территориальные экономические образования прошли различный путь развития, но в их деятельности повсеместно наблюдалось много нарушений федерального законодательства, имели место даже элементы криминального характера, по причине чего все они в итоге были ликвидированы.
Так, зона экономического благоприятствования (ЗЭБ) «Ингушетия» была учреждена Постановлением Правительства РФ от 19 июня 1994 г. № 740, в соответствии с которым Правительству Республики предоставлялась бюджетная ссуда в размере налогов, уплачиваемых предприятиями, зарегистрированными на территории Ингушетии. Таким образом, республиканскому руководству была предоставлена свобода в вопросах взимания этих налогов, причем это распространялось не только на региональные и местные, но и на федеральные налоги.
В последующие годы Ингушетия стала своеобразной «черной дырой», в которую устремились бюджетные деньги многих российских регионов. Предприятия этих регионов, стремясь в мак- симальной степени уйти от налогов, регистрировались в Ингушетии, хотя основное место деятельности фактически никак не менялось. В результате бюджеты российских краев и областей недосчитывались солидных сумм в течение всех лет существования зоны, пока ее действие возобновлялось с теми или иными вариациями (окончательно она была упразднена в 1997 г.).
Несколько более успешным оказался опыт функционирования оффшорной зоны в Калмыкии, где льготной режим также действовал с 1994 г., с момента вступления в силу Закона Республики «О предоставлении налоговых льгот отдельной категории налогоплательщиков». Относительный успех калмыцкого оффшора можно объяснить тем, что с самого начала он был сориентирован на полную легальность своей деятельности. Калмыкия не предлагала своим клиентам льгот по федеральным налогам. Акцент был сделан на существенном снижениии региональных и местных налогов, что в известной степени являлось вполне правомерным в рамках действовавшего тогда законодательства.
В результате инвесторы были привлечены в данную зону возможностью получения льгот по налогообложению, не вступая в конфликт с федеральными налоговыми органами и валютным контролем, как это постоянно имело место в ЗЭБ «Ингушетия». Однако на деле все свелось не к созданию новых предприятий, а лишь к формальной перерегистрации предприятий из других регионов страны. Итоговый макроэкономический эффект этого варианта зонирования также оказался незначительным.
В 1989 г. было принято решение о создании свободных экономических зон в г. Выборг и Находка, однако и эти начинания не удалось реализовать в изначально задуманных экономических масштабах.
Остальные оффшорные территории получили еще меньшее развитие. Среди них следует упомянуть, например, «свободную зону», созданную муниципалитетом г. Углич (Ярославская область), предоставлявшую весьма широкий спектр льгот инвесторам, в том числе (впервые в российской практике) и льготы для физических лиц (подобно широко известным европейским оффшорам типа Андорры и Монако).
Сотни миллионов долларов, потерянных для российской бюджетной системы, ряд уголовных дел – таковы итоги ее деятельности. Узнав о беспрецедентных налоговых льготах в тихом райцентре, в том числе и по основным федераль- ным налогам, сюда устремились регистрироваться сотни предприятий со всей России. Все они, согласно регистрационным документам, имели один и тот же адрес: г. Углич, ул. Ленина, д. 1. По подсчетам местной налоговой службы в одной и той же коммунальной квартире было зарегистрировано около полутора тысяч фирм. По опубликованным ранее оценкам фирмы из райцентра далеко не самого богатого российского региона на валютных торгах каждый день конвертировали в доллары от 180 до 220 млн руб., переводя их в зарубежные оффшоры под видом оплаты неких несуществующих поставок.
В этом смысле имела большое позитивное значение проведенная в начале 2000-х гг. работа по расчистке экономического пространства страны с ликвидацией многих подобных анклавов, большинство из которых не отметилось ничем иным, кроме огромных налоговых злоупотреблений и, как было сказано выше, колоссального ущерба для всех звеньев бюджетной системы страны.
Это, конечно, не свидетельствует о «порочности» самой идеи территориального зонирования или о ее принципиальной неприемлемости для российских условий. Однако можно выделить целый ряд причин, по которым потерпели неудачу многие первоначальные инициативы по созданию различных зон, прежде всего – как институтов территориального развития, как попытки зонирования в условиях экономики начального этапа реформ, слабого действия рыночных механизмов хозяйствования и преобладания довольно примитивных представлений о методах государственного регулирования и контроля в экономике. Отсутствовало четкое целеполагание при организации названных зон как с точки зрения экономического подъема отдельных территорий, так и тем более с точки зрения подъема наиболее значимых отраслей национальной экономики.
Другая причина – общая глубокая криминализация хозяйственных отношений в России в период 1990-х гг., которая не преминула спроеци-роваться на такую благоприятную почву разного рода льгот, как всякие «свободные» и прочие зоны. Наконец, третья причина, тесно связанная с первой, – неудачные попытки устранить разного рода коррупционные проявления в деятельности зон, в результате чего их «деятельность» поддерживалась достаточно длительное время, несмотря не только на отсутствие видимых позитивных социально-экономических эффектов, но и даже на откровенный ущерб для государства. Напоминать об этих причинах приходится вновь, так как и сегодня нет исчерпывающих аргументов в пользу того, что всякая новая попытка зонирования и создания иных видов институтов территориального развития неминуемо даст позитивный эффект и для региона их локализации, и для экономики страны в целом.
Для построения эффективной национальной стратегии в отношении ИР следует ориентироваться на то, что они предназначены для решения только тех задач, которые не могут быть оптимальным образом реализованы с помощью рыночных механизмов хозяйствования и требуют особых механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Это касается ряда ключевых элементов структурной перестройки и инновационной модернизации российской экономики и ее региональных звеньев, а также для освоения и опережающего развития отдельных территорий. Через механизмы партнерства ИР призваны содействовать привлечению частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, создавать благоприятные условия для доступа субъектов хозяйствования к необходимым финансовым и информационным ресурсам, а также заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса. Не случайно после «расчистки» экономического пространства от «остатков» зонирования, предпринятого в 1990-е гг., достаточно скоро идея ИР различной функциональной направленности была просто «обречена» пережить свое возрождение на качественно новом уровне.
Новую институциональную основу заложили и продолжают формировать прежде всего федеральные ИР, которые не столько многочисленны, но в целом контролируют более 70 % активов всех действующих в стране ИР. В их числе Инвестиционный фонд Российской Федерации; Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; ОАО «Российская венчурная компания»; ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; АО «Роснано»; Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ»; ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»; ОАО «Росагролизинг»; ОАО «Российский фонд информационно-коммуникационных технологий»; ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»; «Российский фонд прямых инвестиций»; Фонд развития промышленности; Федеральная корпорация по развитию мало- го и среднего предпринимательства; НКО «Фонд развития моногородов» и пр.
И хотя деятельность этих федеральных или, так сказать, «общегосударственных» ИР не «висит в воздухе», а имеет вполне определенную картину территориальной локализации, их нельзя в полной мере считать институтами территориального развития. Другое дело, что вследствие ведомственной разобщенности и отсутствия единого целеполагающего начала итоговая пространственная картина деятельности (распределения средств) этих институтов никогда не планировалась и не отслеживалась. В этом смысле решение задач федеральной политики регионального развития требовало возврата к использованию, помимо федеральных ИР, также и ИР в виде территориально локализованных структур с особым статусом экономической деятельности.
Это стало возможным после принятия в 2005 г. закона о создании федеральных особых экономических зон [9], снявшего своего рода «табу» на подобного рода институциональные новации. В последующем круг действующих в стране ИР данной функциональной ориентации, закрепленных федеральными законами, стал постоянно расширяться. За ОЭЗ последовали зоны территориального развития, территории опережающего социально-экономического развития, свободные порты, свободные экономические зоны (Республика Крым и г. Севастополь), индустриальные промышленные парки, технопарки в сфере высоких технологий и пр. Сегодня в России представлен практически весь спектр организаций – институтов территориального развития, функционирующих в мире
Кроме того, создание федеральных ИР дало толчок многочисленным повторениям этой инициативы в субъектах Федерации. Появились региональные ОЭЗ, промышленные парки, индустриальные округа и прочие ИР, создаваемые по инициативе субъектов Федерации в пределах их бюджетных возможностей и налоговых полномочий. По имеющимся оценкам сегодня создано более 200 организаций, которые, исходя из осуществляемых функций, могут быть отнесены к региональным ИР как финансового, так и нефинансового характера.
В нашей статье акцент сделан на роли ИР как инструмента регулирования пространственной структуры российской экономики, то есть на возможности ИР как инструмента федеральной политики регионального развития. Можно ли с полной достоверностью выделить тот круг ИР, на которые в преимущественной мере может быть возложена функция проводников (инструментов) федеративной политики регионального развития?
В отечественной экономической литературе давались различные попытки классификации ИР. Прежде всего по уровню правового регулирования выделялись федеральные, региональные, а в отдельных случаях – муниципальные ИР (к последним можно отнести, например, муниципальные фонды поддержки малого и среднего предпринимательства). По возможности оперировать собственными (переданными из бюджета) финансовыми ресурсами выделялись финансовые и нефинансовые ИР. Наконец, по преобладающей целевой функциональности условно можно выделить: институты, решающие приоритетные общегосударственные задачи; институты отраслевого развития, институты пространственного регулирования; институты, решающие специфические задачи, которые не могут быть отнесены к чисто отраслевым или чисто пространственным. Примерное распределение действующих ИР по названным группам дано в таблице.
Задача четкого отграничения группы ИР, которые должны занять определенное место в системе инструментов федеральной политики регионального развития, трудно разрешима, да и в таком строгом делении нет принципиальной необходимости. В работах Центра федеративных отношений и регионального развития Института экономики РАН неоднократно отмечалось: все ИР лишь тогда будут эффективны, когда наряду со своей основной функцией они будут действовать и как инструменты регулирования пространственной структуры российской экономики. Все ИР, независимо от своей «специализации», одновременно должны решать задачи территориального развития. Другими словами, через кооперационные и иные связи хозяйствующие субъекты особых и прочих зон должны создавать «импульсы» для развития экономики региона, а также и всех их сопредельных территорий [6].
Для формирования такого механизма деятельности ИР необходимо решить две основные задачи: во-первых, добиться более четкой целевой ориентации для каждого вида институтов развития; во-вторых, обеспечить необходимую меру согласования функционирования как внутри самой системы ИР, так и с другими основными инструментами федеральной политики регионального развития. Как мы полагаем, достаточную правовую основу для этого создает переход к системе стратегического планирования в Российской Федерации.
Таблица
Группировка федеральных ИР по их преобладающей целевой функции
|
Институты, решающие приоритетные общегосударственные задачи |
Институты отраслевого развития |
Институты пространственного регулирования (регионального развития) |
Институты, решающие специфические задачи, которые не могут быть отнесены к чисто отраслевым или чисто пространственным |
|
Инвестиционный фонд Российской Федерации; Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Фонд прямых инвестиций и пр. |
ФГБУ «Фонд развития промышленности»; ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; АО «Роснано»; Государственная корпорация «Росатом»; ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»; ОАО «Росагролизинг»; ОАО «Российский фонд информационно-коммуникационных технологий» и пр. |
НКО «Фонд развития моногородов»; ОАО «Корпорация развития Дальнего Востока»; ФО «Фонд развития дальнего Востока и Байкальского региона»; АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и пр. |
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства; ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере»; ОАО «Российская венчурная компания» и пр. |
Примечание . Составлено авторами.
Институты развития в формирующейся системе стратегического планирования. С целью формирования основ стратегирования пространственной структуры российской экономики ст. 20 ФЗ-172 [8] предусматривает разработку таких важных документов, как «Стратегия пространственного развития», определяющая приоритеты, цели и задачи регионального развития и направленная на поддержание устойчивости системы расселения на территории Российской Федерации, а также «Основы государственной политики регионального развития» для определения приоритетов регионального развития Российской Федерации.
Очевидно, что важное место в этих документах должен занять вопрос о путях повышения результативности всей системы институтов и инструментов федеральной политики регионального развития. Речь идет прежде всего о межбюджетных отношениях (в широком смысле, то есть включая всю систему межбюджетного распределения налогов), государственных программах отраслевого и территориального характера; федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), а также о финансировании различных видов федеральных ИР.
Пока ни один из двух названных документов, относящихся к пространственному срезу стратегического планирования, официально не принят, а комментировать имеющиеся проекты не вполне корректно. Однако целый ряд принципиальных соображений можно высказать уже в настоящее время. Прежде всего это касается отсутствия в ФЗ-172 указания на особый «блок» институционального стратегирования [2], который мог бы на всю плановую перспективу определить ту систему институтов и инструментов экономической политики государства, которые способны обеспечить достижение целевых заданий документов стратегического планирования, в том числе и пространственного характера. В отсутствие такого «блока» представления о том, как должны развиваться в стратегической перспективе основные институты рынка, предпринимательства и государственного регулирования, остаются крайне размытыми. Это во многом касается основных институтов и инструментов федеральной политики регионального развития.
Например, призывы к совершенствованию межбюджетных отношений и к усилению их стимулирующей направленности уже просто приобрели характер ритуальных заклинаний. Но по сути в этой сфере уже более 10 лет ничего радикально не меняется, а если изменения и происходят, то вне всякой связи с тем, как функционируют и решают свои задачи другие, ныне даже уже экономически более весомые, инструменты региональной политики федерального центра.
Непонятным остается то, как (по каким критериям) выбираются регионы (макрорегионы) – объекты федеральных программ территориального развития и почему субъекты Федерации, попавшие в число бенефициаров этих программ, продолжают получать и другие виды федерального финансирования.
Нет ясных представлений о том, как формируется территориальная картина реализации мероприятий государственных программ отраслевой направленности и федеральных инвестиционных проектов. Причем кумулятивная картина воздействия всех этих инструментов или каналов федерального регулирования на тенденции пространственного развития российской экономики никак не планируется и не оценивается. В этой связи, вопреки формальным декларациям, едва ли можно достоверно подтвердить то, что весь этот механизм реально «работает» на экономическое выравнивание регионов России, а не в противоположную сторону.
Существенными претензиями отмечена и деятельность территориально локализованных ИР. Что-то определенное здесь можно сказать пока только о федеральных ОЭЗ. Зоны территориального развития, хотя закон о них вышел еще в 2011 г., так и остались, судя по всему, на стадии инициирования. Все остальные подобные ИР – ТОСЭР, свободные порты и пр. – реально созданы, но говорить об итогах их деятельности еще рано. Так, на данный момент официально было создано более 30 федеральных ОЭЗ, но фактически действующими значатся только 19 (8 промышленных; 5 технологических; 5 туристических и 1 логистическая). Остальные либо находятся в стадии становления, либо были ликвидированы.
Это связано с тем, что провозглашенные для этих ИР цели в полной мере не достигаются, а выделенные на их создание бюджетные средства не дают ожидаемых результатов. Президент страны В. Путин потребовал провести «расчистку» ИР, обеспечить оптимизацию их состава и функций, модернизировать структуру и механизмы этой работы. Правительству предписывалось установить «ограниченный перечень приоритетов их деятельности», включающий в себя научное развитие, технологическое обновление экономики, поддержку импортозамещения и экспорта, жилищного строительства и развития регионов.
В немалой мере позиция и требования Президента РФ были обусловлены материалами целого ряда проверок, проведенных Счетной палатой РФ, структурами Общероссийского народного фронта и других контрольных органов. Так, по оценкам Контрольного управления при Президенте РФ с 2006 г. на 33 федеральных ОЭЗ было направлено 186 млрд руб. (в том числе 122 млрд руб. – из федерального бюджета), из которых 24 млрд руб. так и не были использованы. Однако эти цифры отра- жают связанную с зонами бюджетную нагрузку лишь в форме прямого финансирования, значительная часть которой возникает в связи с суммой недополученных бюджетных доходов в результате предоставления резидентам зон различных налоговых и таможенных льгот, но оценки этой («скрытой») компоненты финансирования зон никогда не обнародовались.
Напротив, налоговые и таможенные платежи из самих зон за все это время составили 40 млрд рублей. Вместо обещанных 25 тыс. новых рабочих мест, в зонах к 2016 г. было создано только 18 тысяч. При этом 1 рабочее место обошлось только по параметрам прямого финансирования ОЭЗ (то есть без учета бюджетных потерь из-за предоставленных резидентам зон налоговых и таможенных льгот) в 10,2 млн рублей. Этого хватило бы, чтобы выплачивать занимающим эти рабочие места сотрудникам среднюю по Российской Федерации зарплату в течение 25 лет. По некоторым сведениям Правительство РФ планировало закрыть до 10 федеральных ОЭЗ, а остальные – передать в ведение субъектов Федерации. В итоге в 2016 г. было ликвидировано 8 ОЭЗ туристско-рекреационного и портового профиля, а 2 ОЭЗ были сокращены по размерам отведенной им территории [5].
Конечно, нынешний институт федеральных ОЭЗ нельзя характеризовать как полную неудачу, есть и позитивные примеры подобного зонирования. Например, к их числу можно отнести ОЭЗ «Липецк», созданную в самом первом транше нового этапа экономического зонирования в Российской Федерации. Эта ОЭЗ была учреждена в 2005 г. и первоначально размещалась на территории Грязинского района Липецкой области на площади около 10 тыс. кв. км. Сегодня в зоне зарегистрировано более 40 российских и зарубежных резидентов. Принятое в 2016 г. Постановление Правительства РФ предусматривает увеличение территории данной ОЭЗ за счет земельного участка площадью более 12 тыс. кв. км, расположенного на территории Елецкого района области.
Весомые экономические результаты показывает учрежденная в том же году ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан). Хорошую динамику демонстрируют созданные позднее ОЭЗ «Ступино» (Московская область) и «Титановая долина» (Свердловская область). Все это – ОЭЗ промышленнопроизводственного типа, причем созданные в регионах, которые уже и ранее располагали высоким уровнем промышленного развития, а вот в относительно менее развитых регионах страны нынешняя модель ОЭЗ утверждается слабо; здесь явно необходима комбинация иных инструментов региональной политики. Устойчиво функционируют все 5 созданных ОЭЗ техниковнедренческого типа. Но об их успехе можно будет говорить лишь по мере увеличения доли инновационной продукции в российской экономике, а кардинальных сдвигов здесь пока не наблюдается.
Главная причина такой ситуации в том, что экономические обоснования, которые ложатся в основу многих создаваемых зон, носят формальный характер; решение о создании ОЭЗ, как и иных подобных ИР, не соотносится со спецификой различных типов регионов и не координируется с другими инструментами федеральной политики регионального развития. Практика создания этих институтов носит откровенно выраженный бессистемный характер, в том числе и с точки зрения их роли как инструмента политики регионального развития, то есть по принципу «где густо, а где пусто» [1].
В отсутствие особого институционального «блока» в законе о стратегическом планировании, его обращение к институционально-инструментальной стороне экономической политики государства, включая и ее пространственную компоненту, не имеет достаточно целеориентированного характера. Нельзя сказать, что этот факт остается совсем незамеченным. В недавно обнародованном докладе Минэкономразвития России указывалось, что данное ведомство разрабатывает стратегию развития (создания) особых экономических зон в Российской Федерации на период до 2020 года [3]. Стратегией должны формироваться условия превращения ОЭЗ в мощный и высокоэффективный инструмент национальной макроэкономической и региональной политики, способствующий импортозамещению и активному внедрению инноваций и новых технологий. Логика подсказывает, что подобный документ нужно было готовить не сейчас, а 10 лет назад; впрочем, и до настоящего времени он так и не обнародован.
Хорошей основой для преодоления этих недостатков могут послужить названные выше «пространственные» документы стратегического планирования, если учесть, что за все годы российских реформ принять развернутый концептуальный документ по задачам и инструментам федеральной политики регионального развития так и не удалось. В самом ФЗ-172, несмотря на многочисленные апелляции к необходимости планирования «институциональных преобразований», какие-либо конкретные детали и задачи такого планирования не содержатся.
Что касается документов стратегического планирования, относимых к регулированию пространственной структуры экономики, то в настоящее время можно обращаться лишь к такому официальному документу, как постановление Правительства РФ, определяющее основное содержание стратегии пространственного развития [7]. Этот документ (п. 6 «д») относит к числу основных положений в сфере пространственного развития Российской Федерации «перечень потенциальных территорий опережающего социально-экономического развития, основанный на комплексной оценке и анализе условий и потенциалов пространственного развития Российской Федерации, а также варианты территориального размещения национальных технологических платформ».
Что касается «технологических платформ», то они представляют собой обозначение ключевых направлений научно-технической политики и технологического развития в стране, и вопрос об их «территориальном размещении» ранее не поднимался. Необходимость отразить в стратегии перечень потенциальных ТОСЭР – весьма актуальная установка, учитывая, что в последнее время практика создания таких территорий как-то раздвоилась. Изначально ТОСЭР рассматривались как рычаг подъема территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе и практически неосвоенных территорий, но в последний момент в соответствующее законодательство было внесено положение о возможности создания ТОСЭР в моногородах. Другими словами, сложилась практика, когда один и тот же ИР используется для решения проблем территорий с качественно различной социально-экономической ситуацией.
Кроме того, неясно, почему в постановлении упоминаются только ТОСЭР, но обойдены стороной такие федеральные институты территориального развития, как особые экономические зоны, зоны территориального развития, «свободные порты» и пр. Нет в документе и указания на необходимость отразить в Стратегии пространственного развития принципы и механизмы согласования деятельности федеральных ИР с иными инструментами федеральной региональной политики, а также с ИР регионального уровня.
Еще один важный момент – повышение адресности в работе ИР на основе типизации российских регионов и конкретизации их потребности в тех или иных мерах (инструментах) федеральной политики регионального развития. В этой связи следует позитивно оценить такую установку Постановления Правительства РФ № 870, как акцент в политике пространственного регулирования на различные типы регионов и городов России. Это особенно важно, поскольку ранее селективный подход в политике регионального развития отвергался как противоречащий конституционному принципу равноправия субъектов Федерации во взаимоотношении с федеральном центром.
Теперь, когда это откровенное заблуждение преодолено, есть возможность для различных типов регионов России сформировать несколько инструментальных вариантов такой политики, строящихся на различных моделях межбюджетных отношений, на целевом, адресном использовании различных видов государственных программ, инвестиционных проектов и институтов развития. Это – одна из наиболее сложных, но одновременно и наиболее важных задач, которые должны быть решены в ходе окончательной доработки Стратегии пространственного развития для российской экономики.
Существенную роль в повышении эффективности деятельности институтов территориального развития могла бы сыграть децентрализация управления ими. К настоящему времени уже обозначились отдельные шаги в этом направлении. Так, в июне 2015 г. в результате соглашения между Минэкономразвития РФ и Правительством Московской области регион получил полномочия по управлению давно действующей ОЭЗ «Дубна». На основе этого соглашения Министерство инвестиций и инноваций Московской области сможет регулярно проводить экспертизы проектной документации и контролировать результаты инженерных изысканий объектов, предполагаемых к размещению на территории зоны.
Полномочия по управлению новой ОЭЗ «Тольятти» переданы Правительству Самарской области. Теперь в полномочиях субъекта Федерации – проведение наблюдательного и экспертного советов, заключение соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности в зоне и контроль их исполнения. Эффективность функционирования ОЭЗ будет оцениваться по таким параметрам, как количество привлеченных отечественных и зарубежных ре- зидентов, число созданных рабочих мест, величина фактически осуществленных инвестиций и уплаченных налогов.
Названные новации, а именно включение ИР в число ключевых объектов пространственного «среза» стратегического планирования, акцент на принципы типизации регионов при выборе инструментов политики регионального развития, а также децентрализация в управлении ИР, могут сделать эти институты современного хозяйствования мощным рычагом подъема экономики российских регионов и страны в целом.
Список литературы Институты развития в стратегическом планировании пространственной структуры российской экономики
- Бухвальд, Е. М. Институты развития и формирование инновационной экономики в России/Е. М. Бухвальд//Наука и практика. -2013. -№ 3 (11). -С. 22-34.
- Бухвальд, Е. М. Стратегическое планирование в России: «отложить нельзя реализовать»/Е. М. Бухвальд//Региональная экономика. Юг России. -2016. -№ 2. -С. 4-13.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Минэкономразвития России на 2015-2017 годы. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://file:///C:/Users/ezcool/Downloads/DOKLAD_min_part1.pdf (дата обращения: 12.12.2016). -Загл. с экрана.
- Евграфов, Д. А. Территории с особым режимом экономической деятельности как инструменты регулирования пространственного развития России/Д. А. Ефграфов//Менеджмент и бизнес-администрирование. -2016. -№ 3. -С. 38-55.
- Нетреба, П. Институты есть, развития нет. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/2016/08/29/10164851.shtml (дата обращения: 23.12.2016). -Загл. с экрана.
- Политика регионального развития и совершенствование экономико-правовых основ федеративных отношений. Научный доклад. -М.: Ин-т экономики РАН, 2015. -С. 10-12.
- Постановление Правительства РФ от 20 августа 2015 г. № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации»//Министерство экономического развития РФ: . -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/planning/sd/870 (дата обращения: 21.11.2016). -Загл. с экрана.
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения: 24.12.2016). -Загл. с экрана.
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/(дата обращения: 02.12.2016). -Загл. с экрана.