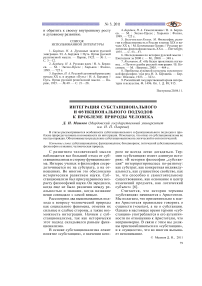Интеграция субстанционального и функционального подходов к проблеме природы человека
Автор: Мешков Дмитрий Николаевич
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Философия образования
Статья в выпуске: 3 (64), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности субстанционального и функционального подходов к проблеме природы человека и возможности их интеграции. Отмечается, что отказ от субстанционализма не всегда оправдан. Обосновывается разделение субстанционализма на логический и онтологический.
Субстанционализм, функционализм, бихевиоризм, логический субстанционализм, философия сознания, человеческая природа
Короткий адрес: https://sciup.org/147136784
IDR: 147136784
Текст научной статьи Интеграция субстанционального и функционального подходов к проблеме природы человека
С развитием человеческой мысли наблюдается все больший отход от субстанционализма в сторону функционализма. Интерес ученых и философов сосредоточивается не на субстрате, а на отношениях. Во многом это обусловлено историческим развитием науки. Субстанционализм был присущ раннему возрасту философской науки. Он зародился, когда еще не было различия между реальностью и знаками, когда название вещи совпадало с самой вещью.
Рассмотрим два вышеназванных подхода к вопросу человеческой природы как социального феномена, отметив их сильные и слабые стороны, а также возможность интеграции. Начнем с субстанционализма, так как исторически этот подход складывался раньше функционализма.
В основе субстанционализма лежит понятие «субстанция», о значении кото рого не всегда легко догадаться. Термин «субстанция» имеет длинную историю. «В истории философии „субстан-ция“ интерпретировалась по-разному: как субстрат, как конкретная индивидуальность, как сущностное свойство, как то, что способно к самостоятельному существованию, как основание и центр изменений предмета, как логический субъект» [6].
Считается, что история термина «субстанция» начинается с Аристотеля. Мы полагаем, что применительно к идеям Аристотеля правильнее говорить о сущности («ousia»), а не о субстанции. Однако в настоящее время термин «субстанция» употребляется в его аутентичности по отношению к Аристотелю, что неправомерно. В связи с этим мы должны приспосабливаться и к «субстанции», и к «сущности», что во многом вызывает непонимание.
Аристотель выделяет первую сущность (конкретный человек, конкретная вещь), которую принято называть субстанцией, и вторую сущность (род, вид) — чистую сущность. Субстанция является самостоятельным бытием. «С логической точки зрения субстанция есть субъект всех своих предикатов, с онтологической — субстрат, реальный носитель свойств и предпосылка отношений». В отличие от Платона Аристотель считал вторую сущность предикатом субстанции. Кроме того, он отождествлял субстанцию с формой [4, с. 651].
В Средние века под влиянием учения Аристотеля появились номинализм и реализм, в Новое время — монизм и дуализм. Акцент все более смещался к элиминации духовной субстанции в пользу материального субстрата. Начиная с Г. В. Лейбница субстанция стала ассоциироваться с материальным субстратом.
С развитием функционального мышления (И. Кант и др.) интерес к категории субстанция ослабевает. О. Шпенглер связывает возрастание значения категории «функции» с «фаустовским стремлением к бесконечности» у западной души [12]. Для русского типа мышления, как показывает в своих работах А. А. Гага-ев, субстанциональный подход остается в силе и сейчас [3]. Некоторые исследователи в русле философии языка связывают субстанционализм с самой структурой языка, синтаксисом; в частности, с противопоставлением субъекта и предиката в суждении. Например, Б. Рассел считает понятие «субстанция» проекцией языка [8, с. 257]. В другом месте он указывает, что метафизический смысл, вкладываемый в понятие «субстанция» в западной философии, нужно искать еще у Парменида, в его «учении о едином неделимом» [8, с. 80].
В настоящее время ситуация терминологической неясности остается. Все приблизительно представляют, о чем идет речь, но смысловое наполнение рассматриваемого термина у каждого автора свое. Ситуация осложняется также тем, что некоторые авторы заранее не оговаривают значения терминов или ого варивают в общих словах, зато используют их в самых тонких смыслах.
Подчеркивая, что субстанция — это «предельное основание, дающее возможность сводить чувственное многообразие и изменчивость свойств к чему-то постоянному, относительно устойчивому и самостоятельно существующему» [6], мы акцентируем внимание на логической стороне субстанционализма, не касаясь вопросов онтологии. В таком контексте субстанции — это результаты предельных обобщений.
В онтологическом плане акцентировать внимание можно только на материальном субстрате. Но и здесь возникают трудности, так как все свести к материальному субстрату не получается. Например, правомерно ли ставить знак равенства между человеческим организмом (телом) и человеческой природой? Человек развивается в обществе. Человеческий организм сам по себе без социума не приобретает все черты человека. А какой онтологический статус придать социальным отношениям? С позиций логического субстанционализма субстанцией человеческой природы выступают человеческий организм и общественные отношения. В таком случае «субстанция» объединяет в себе и материальный субстрат, и нематериальную сущность.
Можно ли «поэкспериментировать» и сделать следующий шаг по пути абстракции: выделить сущность человеческого организма (тела) в виде информации генетического кода, чтобы получилось такое определение: человеческая природа — генетический код и его развитие в социальных условиях. А если пойти еще дальше — абстрагироваться от общественных отношений, признав, что человеческая природа есть соразви-тие (коэволюция) генетических кодов? Мы считаем, что делать такие шаги абстракции не нужно, так как телесность — неотъемлемая характеристика человеческой природы; если нет телесности — нет человека.
Изучение функций похоже на бесконечное стремление к пределу, поэтому и встает вопрос о человеческой природе как о том, что полагает границы, упорядочивает функции. Говорить о человеческой природе с позиций субстанциона-лизма можно в смысле того, чтобы определять область допустимых значений, «проявлений» (функций) человеческой природы. Человеческая природа — логическая абстракция; обобщающая характеристика человека, полагающая границы «проявлениям» человека.
С позиций логического субстанциона-лизма не отрицается, что «значение есть употребление», но считается, что существуют инварианты, которые и делают возможными языковые игры. Но как найти такой инвариант? Дискуссии о природе человека и есть его поиск. Нельзя же все обосновать на функциональных ролях, через функциональные зависимости. Правила игр задаются относительно существующих условий.
Обозначая человеческую природу как инвариант, мы подразумеваем под ним абстрактную структурную единицу, в отвлечении от ее конкретных реализаций (вариантов). Точно так же вводятся константы человеческой природы — свобода, моральное чувство. В конкретном человеке инвариант становится вариантом.
Что касается функционализма, то его смысл — объяснить и предсказать природу вещи, явления по их функциям; определить возможности влияния на эту вещь, явление (аспект управления, власти).
Функционализм, будучи общефилософским подходом, вытекающим из причинно-следственных и временных связей, «разлился» по специальным социальным дисциплинам — социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон), психологии (бихевиоризм). Сложившееся в XVII в. представление о мире, а затем и о человеке как о машине стало тем, на чем вырос функционализм социальных и гуманитарных наук. Так, У. Гарвей объяснил работу сердца и кровеносной системы по типу насоса, Р. Декарт писал о работе нервной системы и сформулировал первую теорию рефлексов (рефлексы уже предполагают функциональные отношения).
Термин «функция» (от латинского functio — совершение, выполнение, выполнение работы) многозначный. Существуют два основных его значения, которые не всегда четко обозначаются в словарях:
-
1) математическое: закон зависимости одной величины от другой. В таком значении термин впервые употреблен Г. В. Лейбницем в 1692 г. [10, с. 48];
-
2) работа, производимая органом, организмом, индивидом; роль, значение чего-либо.
Функциональный подход в философии, социологии, психологии чаще всего предполагает второе значение термина, но очевидно, что оба значения пересекаются.
Пример употребления данного термина в «математическом смысле» в бихевиоризме — установление функциональных отношений между видимым действием и видимыми последствиями, между стимулом и поведенческими реакциями. Собственно бихевиоризм и представляет функциональный подход к человеческой природе, а именно объяснения человеческой природы по внешним проявлениям [15, с. 35]. Возникновение бихевиоризма связано с именем Дж. Уотсона, предложившего механици-стский взгляд в психологии, а его дальнейшее развитие и распространение — с именем Б. Скиннера, который считал человека только машиной, сложной, но машиной. В понимании Б. Скиннера наука о поведении по сути такая же естественная наука, основанная на фактах, а для построения полной картины человеческой природы достаточно изучения одних поведенческих реакций. Функциональный анализ психолог признавал сущностью научного метода.
Позиция Б. Скиннера основывается на непризнании человека автономным существом. При этом предполагается распространенный «аргумент из будущего», что наше представление о свободе человека зависит от нашего невежества — по мере того как мы больше узнаем о поведении, в человеке остается меньше автономности. Считается, что человека можно «полностью объяснить» и правильный путь к этому — анализ функциональных отношений между стимулами и поведенческими реакциями с учетом обратной связи. Мотивы или другие «внутренние факторы» ничего не проясняют в данной картине. Отсюда вытекает типичный редукционистский план действий — устранить метафизические понятия, которые мешают эмпирическому анализу.
В современной западной философской мысли функционализм связан с когнитивными науками, исследованиями в сфере искусственного интеллекта и философией сознания в русле аналитической философии. Наверное, именно в философии сознания вопрос о человеческой природе встает со всей остротой, перерастая в вопрос о соотношении психического и физического. Нужно заметить, что вопрос о человеческой природе аналитическими философами не всегда ставится напрямую, некоторые считают его псевдопроблемой, так как «нахождение сущностей» часто сопряжено с субстан-ционализмом.
Неприятие субстанционализма характерно уже для Д. Юма. Английский философ ставил под сомнение существование каких-либо субстанций и единственным видом реальности считал воспринимаемый опыт. Он обосновывал свою позицию тем, что за идеей субстанции не стоит никакого впечатления. «Идея субстанции, равно как и идея модуса, не что иное, как совокупность простых идей, объединяемых воображением и наделяемых особым именем, с помощью которого мы можем вызвать эту совокупность в собственной памяти или в памяти других людей» [14, с. 74—75].
Вообще, в английской философии был небольшой период (конец XIX — начало XX в.), когда преобладал абсолютный идеализм с некоторыми чертами субстанционализма. Это была реакция на эмпиризм. Основной акцент делался на роли диалектико-логических связей и принципов, придающих единство и целостность человеческому опыту. Субстан-ционализм нашел отражение в монизме и «теории внутренних отношений», согласно которой реальность вещи или явления зависит от включенности в систему отношений, а отношения носят сущностный характер. Вся система отношений рассматривалась как подчиненная Абсолюту, а истина понималась как идеальное выражение всех связей, их когерентность. Против этого течения выступили Б. Рассел и Д. Мур, которые противопоставили «теории внутренних отношений» функциональную «теорию внешних отношений». Вместо монизма предлагался плюрализм [5, с. 30—31].
Л. Витгенштейн «боролся» с эссенциализмом. Современные философы аналитической традиции тоже считают проблему сущего псевдопроблемой. Так, В. В. Васильев говорит, что этой проблемы не существует, и обосновывает свою точку зрения логико-лингвистическим разбором слова «сущее» [2, с. 10].
В аналитической философии начиная с Б. Рассела проявляется все больше черт функционализма. По замечанию А. Грязнова, у самого Б. Рассела, настроенного против субстанционализма абсолютного идеализма, все еще заметна зависимость от европейской метафизики, разделявшей сферу видимости и сферу субстанциональных принципов и сущностных структур. Фреге-расселов-ская традиция анализа делает акцент на поиске формально-логических структур, лежащих в основании явлений. Что примечательно, Н. Хомского А. Грязнов тоже относит к фреге-расселовской традиции.
С обращением к лингвистическому анализу, к коммуникативной стороне языка функционализм становится более заметным. Так, Л. Витгенштейн разделял «поверхностную» и «глубинную» грамматики. «Поверхностная грамматика» — это грамматический синтаксис. «Глубинная грамматика» подразумевает уже не формально-логические структуры, а уровень «языковых игр». Поскольку «языковые игры» связаны с употреблением слов в зависимости от той или иной ситуации, значение является функцией употребления [5, с. 19—20].
Функционализм в философии сознания объединяет следующие программы: функциональный анализ, компьютацион-но-репрезентативную модель, метафизический функционализм [1].
Функциональный анализ предполагает разложение системы на части с последующим исследованием их функциональной роли. Эта наиболее общая программа близка к функциональному подходу, например в социологии. Две другие характеризуют именно философию сознания.
Компьютационно-репрезентативная модель основывается на видении человека (человеческого организма) как компьютера, а сознания — как программы компьютера. Такая модель с успехом применялась в когнитивистской психологии. С одной стороны, успехи в моделировании процессов обучения, памяти, принятия решений побудили распространить такую модель на сознание, а с другой — вышеупомянутые модели считались недостаточными без допущения сознания. Таким образом, сознание в когнитивистской психологии выполняет функцию целостности, связывая воедино различные ментальные понятия.
Метафизический функционализм делает акцент на онтологии: что представляют собой ментальные состояния? Устанавливается тождество: «ментальные состояния — это функциональные состояния».
Вопросы о сознании и самосознании являются решающими в рассмотрении человеческой природы, включающей не только биологический организм, но и социальные отношения.
Философия сознания во многом завязана на психофизической проблеме. Основная критика идеи психофизического тождества направлена на то, что такое тождество не обнаруживается, как в эмпирической науке. Действительно, психофизические тождества могут быть оправданы только на методологических основаниях, а не на онтологических. Однако онтология не отбрасывается, и спор переходит в поиск и установление коррелятов ментальных событий в мозге, а далее — в старую философскую проблему общего и частного. Глобальная задача некоторых функционалистов — построить карту ментального, изоморфную карте нейронного.
Современная наука основывается на функционализме. И. Пригожин отмечает: «В наши дни основной акцент научных исследований переместился с субстанции на отношение, связь, время» [7, с. 22]. По-видимому, субстанционализм является основанием теорий в тех случаях, когда речь идет о постулатах, аксиомах, исходных предпосылках. А. Эйнштейн писал: «Теоретические идеи... не возникают отдельно от опыта и независимо от него; их также нельзя вывести из опыта чисто логическим путем. Их возникновение есть творческий акт. Коль скоро теоретическая идея возникла, ее следует строго придерживаться до тех пор, пока она не приведет к противоречию» [13, с. 721]. Функциональное мышление «включается» потом — когда нужно вывести все возможные отношения из исходных положений.
Некоторые философы (М. Хайдеггер, Н. Бердяев, М. Шелер) критиковали функционализм науки. М. Шелер, например, стремился к сущностному описанию, но вместе с тем замечал, что «личность человека есть не “субстанция”, но лишь монархическое упорядочение актов, один из которых осуществляет руководство» [11, с. 71]. А. А. Гагаев считает, что в науке будущего субстанционализм расширит свои позиции. Развитая наука должна будет перейти от стадии исследования функций к стадии исследования сущностей [3, с. 333].
Помимо традиционной «исторической» схемы перехода от субстанциона-лизма к функционализму существуют и другие подходы. Например, функционализм и субстанционализм рассматриваются как рефлексии, которые зависят от космо-психо-логоса (термин Г. Гачева). На трансцендентальный субъект накладываются особенности мышления конкретного этноса. Такую позицию разделяют О. Шпенглер, Н. Данилевский, Г. Гачев, А. А. Гагаев и другие философы.
Функциональная и субстанциональная рефлексии связываются и с функциональной асимметрией головного мозга. Как известно, левая половина отвечает за логическое мышление (функционализм), а правая — за образное (субстан-ционализм).
Обозначенная проблема имеет также психолого-педагогический аспект. В основе той или иной педагогической концепции обычно находится учение о человеческой природе. К. Д. Ушинский в работе «Человек как предмет воспитания» писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях», а в предисловии к этой же книге указывал, что задача педагогики состоит в совершенствовании человеческой природы [9]. Рассмотренные выше подходы к проблеме человеческой природы — субстанциональный и функциональный — могут показаться умозрительными. На самом деле они постоянно применяются, хотя часто и не попадают в поле зрения рефлексии. Как правило, в стиле того или иного педагога можно наблюдать преобладание одного из них. Педагогический стиль, понятый в таком ракурсе, становится более ясным феноменом.
Вывод, который мы делаем в данной статье, заключается в том, что сосредоточиваться только на функционализме, как это часто происходит в настоящее время, неправомерно; отказ от субстан-ционализма не всегда оправдан. Между тем субстанционализм следует разделять на логический и онтологический. Очевидно, что взаимодополнение, интеграция данных подходов к проблеме человеческой природы дает больше, нежели каждый из них по отдельности.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
-
1. Блинов, А. К. Аналитическая философия [Электронный ресурс] / А. К. Блинов, В. А. Ладов, М. В. Лебедев и др. // Русский Гуманитарный
-
2. Васильев, В. В. Трудная проблема сознания / В. В. Васильев. — М. : Прогресс-Традиция, 2009. — 272 с.
-
3. Гагаев, А. А. Философская и культурнотипическая антропология. Русский космо-психологос. Культурно-типическая модель науки. Демографические и эстетические основания космо-психо-логоса. Система философии. Философия истории и русской истории. Т. 2, ч. 3.1 (2). Критика западной, восточной и русской историографической рефлексии / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. — Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2007. — 340 с.
-
4. Гайденко, П. П. Субстанция / П. П. Гайденко // Новая философская энциклопедия : в 4 т. — М., 2001. — Т. 3. — С. 651.
-
5. Грязнов, А. Ф. Аналитическая философия / А. Ф. Грязнов. — М. : Высш. шк., 2006. — 375 с.
-
6. Огурцов, А. В. Субстанция [Электронный ресурс] / А. В. Огурцов // БСЭ. — Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/article107257.html .
-
7. Пригожин, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 296 с.
-
8. Рассел, Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от Античности до наших дней : в 3 кн. / Б. Рассел. — 4-е изд., стер. — М. : Академический Проект : Фонд «Мир», 2004. — 1008 с.
-
9. Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Т. 1. [Электронный ресурс] / К. Д. Ушинский. — Режим доступа: http://az.lib.ru/u/ushinskij_k_d/ text_1867 _chelovek_kak_predmet _vospitaniya_ tom_1 .shtml.
-
10. Фихтенгольц, Г. M. Основы математического анализа / Г. М. Фихтенгольц. — 4-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2004. — Ч. 1. — 448 с.
-
11. Шелер, M. Положение человека в космосе / М. Шелер // Проблемы человека в западной философии. — М., 1988. — С. 31—95.
-
12. Шпенглер, О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. В 2 т. Т. 1. Образ и действительность / О. Шпенглер ; пер. [с нем.] И. И. Маханькова. — М. : Айрис-пресс, 2006. — 528 с.
-
13. Эйнштейн, А. Собрание научных трудов / А. Эйнштейн ; под ред. И. Е. Тамма, Я. А. Сморо-динского, В. Г. Кузнецова. — М. : Наука, 1966. — Т. 2. — 878 с.
-
14. Юм, Д. Трактат о человеческой природе / Д. Юм. — Минск : ООО «Попурри», 1998. — 720 с.
-
15. Skinner, B. F. Science And Human Behavior [Электронный ресурс] / B. F. Skinner. — Режим доступа: http://www.bfskinner.org/BFSkinner/PDF Books_files/Science_and_Human_Behavior_1.pdf
Интернет-Университет. — Режим доступа: archive/blinov_analit/.
Поступила 18.05.11.