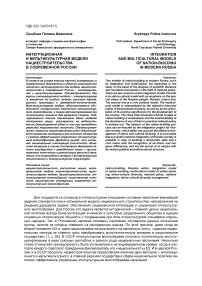Интеграционная и мультикультурная модели нациестроительства в современной России
Автор: Срыбная Полина Ивановна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа научной литературы и нормативных документов в области национальной политики эксплицируются две модели нациестроительства в современной России - интеграционная и мультикультурная. Рассматриваются две версии интеграционной модели - этнокультурная (с акцентом на особый статус русского народа, русской культуры) и гражданско-политическая. Мультикультурная модель обосновывается объективной исторической данностью этнокультурного многообразия, а также артикулированием его позитивного значения для развития страны. Подчеркивается тесная взаимосвязь обеих моделей построения нации, указывается на недопустимость доминирования одной из них при проведении реальной национальной политики. Сбалансированность процесса нациестроительства обеспечивается проектом интеграции российского общества с учетом эффективного управления этнокультурным многообразием. Делается вывод, что успешная национальная интеграция российского общества возможна в случае построения демократического государства и гражданской нации с признанием всех этнических и религиозных различий населения, а не возрождения империи с ее вертикальной политической и этнокультурной структурой.
Нациестроительство, российская нация, интеграционная модель нациестроительства, мультикультурная модель нациестроительства, этнокультурное многообразие, национальная политика, национальная интеграция, управление этнокультурным многообразием
Короткий адрес: https://sciup.org/149134937
IDR: 149134937 | УДК: 323.1(470+571) | DOI: 10.24158/fik.2021.4.7
Текст научной статьи Интеграционная и мультикультурная модели нациестроительства в современной России
Для государств со сложным в этнокультурном отношении составом населения важнейшей задачей становится поиск оптимальной модели национального строительства, направленной на решение двуединой задачи: обеспечения национальной интеграции и сохранения этнокультурного многообразия. Для России эта задача является исторической – главной целью национальной политики всегда была интеграция этнически и культурно разделенного общества в единую социально-политическую общность с сохранением при этом этнокультурной специфики отдельных народов. Так, в Российской империи половину населения составляли разные этнические группы, многие из которых говорили на неславянских языках. По этой причине, даже когда во второй половине XIX в. идеи национализма начали влиять на имперскую элиту, «царское правительство никогда не ставило цель преобразовать мультиэтническую империю в национальное государство» [1, с. 85]. В СССР этнокультурное многообразие получило политическую институционализацию в виде союзных республик и разного рода национальных автономий. Несколько позже этническая принадлежность была установлена и на индивидуальном уровне, когда в паспорте каждого советского гражданина фиксировалась его «национальность» [2]. И в царской России, и в СССР процессы нациестроительства предполагали наличие двух векторов – интеграционного и мультикультурного, а главной задачей государства в сфере национальной политики являлось эффективное управление этнокультурным многообразием населения.
Указанная задача остается актуальной и сегодня. «Как соединить многообразие страны и этнокультурное развитие отдельных общностей и регионов с проектом гражданской нации и обеспечением гражданского единства?» - задается вопросом в этой связи В.А. Тишков. Ответ, по мнению ученого, таков: «Признанное многообразие и есть единство, которое не должно пониматься как единообразие» [3, с. 18]. Диалектическая формула «единство в многообразии» становится сегодня доминирующим фреймом концептуализации процессов нациестроительства в научной среде, а также задает смысловые параметры нормативно-стратегических документов в сфере национальной политики.
Важнейшим из них является «Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.». Главными ее целевыми ориентирами являются: с одной стороны, «укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа РФ (российской нации)», а с другой стороны - «сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия России» [4, с. 354].
По мнению В.Ю. Зорина, «главная задача этнополитики на современном этапе - оптимальное соединение проекта этнокультурного развития регионов и проекта российской гражданской нации» [5, с. 28]. Важнейшей «целью национальной политики на современном этапе развития является сплочение российского общества в единую политическую нацию через развитие этнокультурного многообразия нашего государства» [6, с. 76]. Диалектический ракурс анализа перспектив нациестроительства российскими учеными и политиками отвечает не только отечественной традиции решения «национального вопроса», но и доминирующим тенденциям в мировой практике нациестроительства. При всех отличиях каждой конкретной ситуации «вектор поддержания “единства в многообразии”, обоснованный в рамках социального конструктивизма, рассматривается как основополагающий принцип поддержания межэтнического согласия и как основа основ политики идентичности в демократическом обществе» [7, с. 96].
В диалектическом напряжении между общим и частным, универсальным и партикулярным, пронизывающем социокультурное развитие современного российского общества, формируются две модели построения нации, которые мы предлагаем категоризировать как интеграционную и мультикультурную. Логика подобной классификации заключается в том, что все имеющиеся на сегодняшний день модели или векторы российского нациестроительства можно интерпретировать либо как интеграционные, либо как мультикультурные. В нашем понимании интеграционная модель нациестроительства предполагает вычленение стержневого фактора, вокруг которого возможно общенациональное объединение поверх этнокультурных различий. В роли подобного фактора может выступить народ, культура, цивилизация или общая система ценностей, которые будут восприниматься российским обществом в качестве объединяющего и консолидирующего начала. В этом контексте с точки зрения реализации национальной политики особое значение приобретает поиск оптимальной формы организации этнокультурных различий внутри интегрированного сообщества, эффективных средств управления этнокультурным разнообразием. Мультикультурная модель нациестроительства предполагает артикуляцию на индивидуальных или даже групповых правах членов этнокультурных сообществ, утверждение этнокультурного разнообразия в качестве главной социальной ценности и ориентацию национальной политики на поддержание и развитие этнокультурных групп и самого феномена этнокультурного разнообразия. Обе модели нациестроительства тесно взаимосвязаны и ограничивают одна другую. Фактор взаимоограничений очень важен, поскольку он не должен позволять интеграции превращаться в ассимиляцию. С другой стороны, важно не допустить понимания этнокультурного разнообразия как политического проекта с перспективами сепаратизма.
Интеграционная модель имеет две основные версии, каждая из которых рельефно отображается в идейном пространстве российской социальной философии, а также имеет определенные преломления в дискурсе властных элит по поводу нациестроительства. Первая из них связана с «русскоцентричностью» национальной политики, нашедшей в прошлом году практическое выражение в виде конституционной поправки о русском языке как языке государствообразующего народа. Это не стало неожиданностью. Еще в 2012 г. В.В. Путин в статье «Россия: национальный вопрос» писал о том, что русские являются государствообразующим народом по самому «факту существования России» [8]. Кроме того, в статье прозвучали идеи о «великой миссии русских» как народа, скрепляющего полиэтническую цивилизацию, о «русской культурной доминанте» как интегрирующем факторе построения российской нации.
Подобные идеи нередко трактуются как неоимперский дискурс, предполагающий доминирование русских именно как этнокультурного сообщества. В этом контексте некоторыми учеными и экспертами была воспринята озвученная в 2016 г. идея о законодательной фиксации российской нации. Поскольку понятие «российская нация» многими было интерпретировано не в гражданско-политическом, а в этнокультурном смысле, это породило негативную реакцию, прежде всего в «национальных» республиках. Например, И.М. Сампиев считает, что через проект «российской нации» центральная власть пытается реализовать имперские и националистические цели [9]. Обращается внимание на негативную реакцию титульных этносов и их элит на предложенную инициативу: «Внедрение в дискурс понятия “российская нация” воспринимается не иначе как попытка упразднить национально-государственный статус их собственной этничности. Не приведет ли новая искусственная попытка интеграции “сверху” к противоположному результату, если внедрение термина “российская нация” воспримется как посягательство на идею татарской, якутской, осетинской, башкирской и даже русской наций?» [10, с. 131].
Проблема заключается в том, что в российской политической культуре термины «нация» и «национальный» до сих пор, по наследству от советской этнологической традиции, воспринимаются преимущественно в этническом смысле. Новый, возникший уже в постсоветский период во многом благодаря академику В.А. Тишкову, гражданско-политический и одновременно конструктивистский смысл «нации» с трудом пробивает себе дорогу сквозь традиционные примордиа-листские представления. Даже в таком серьезном нормативном документе, как «Стратегия гос-нацполитики...» сохраняется явная двусмысленность в использовании ключевых терминов. Так, «российская нация», подаваемая авторами документа как гражданско-политическая конструкция, проходит в тексте в качестве синонима понятия «многонациональный народ Российской Федерации», имеющего явный этнокультурный характер. Само понятие «национальный» как отражение нейтрального в этническом плане гражданского дискурса по существу присутствует только в самом конструкте «российская нация», а во всех остальных случаях несет в себе этнокультурный смысл. Как точно подмечает Ю.В. Попков, анализируя документ, «понятие “российская нация” противоречит содержанию понятия “национальный”, которое используется во всех других случаях не в политическом (гражданском) смысле, как в ситуации с российской нацией, а в этническом (этнокультурном) (“национальная политика”, “национальность”, “межнациональное согласие”, “межнациональные отношения” и др.). Иначе говоря, в тексте Стратегии наблюдается терминологическая путаница» [11, с. 349].
Подобная ситуация, помимо отмеченной выше традиции отождествления национального с этническим, объясняется наличием двух векторов или моделей нациестроительства. Артикулирование идеи гражданской нации, укрепления гражданского самосознания сопровождается отсылками к сохранению этнокультурного разнообразия, широким применением этнокультурных понятий «многонациональный народ», «межнациональные отношения» и т.д. Именно в проекте построения российской гражданско-политической нации проявляет себя вторая версия интеграционной модели нациестроительства. Гражданский дискурс даже в большей степени, нежели неоимперские русскоцентричные интегрирующие потоки, выражается в риторике властных элит. Например, в программной статье В.В. Путина «Демократия и качество государства» [12] гражданско-политический дискурс национальной интеграции задается такими понятиями, как «подлинная демократия», «гражданское общество», «участие граждан в политике и управлении» и др. Серьезное развитие он получает и в научной среде [13]. Однако отсутствие глубоких демократических традиций, имперское и авторитарное наследие до сих пор негативно влияют на перспективы развития полноценной гражданской нации в России. Как свидетельствуют исследования в области социального наследия (legacy research), в бывших коммунистических странах уровень гражданского участия оказался ниже ожидаемого [14].
Обе версии интеграционной модели нациестроительства сосуществуют в научном и политическом дискурсе, акцент делается на одной из них в зависимости от ситуации, настроений в обществе, решаемых социально-политических задач. В любом случае реализация интеграционного проекта нациестроительства зависит от эффективности управления этнокультурным многообразием, от того, насколько гармонично соединятся в общем процессе нациестроительства его интеграционная и мультикультурная составляющие.
Мультикультурная модель построения российской нации обусловлена двумя главными факторами. Во-первых, она связана с исторически сложившейся этнокультурной сложностью российского государства. Объективная данность этнокультурного многообразия прочерчивает определенные и достаточно строгие границы, в пределах которых возможно эффективно реализовывать интеграционные проекты национальной политики. Переход за эти границы ведет к конфликтам и подрывает целостность государственной системы. Например, попытки русификации, предпринятые царским правительством в последней трети XIX в., способствовали росту регионального национализма, прежде всего, польского и украинского. Во-вторых, экспликация мультикультурной модели предполагает позитивную оценку фактора этнокультурного многообразия, его легитимацию как важного отличительного признака российской социокультурной системы и конкурентного преимущества, позволяющего продемонстрировать всему миру образец межнационального согласия, дружбы народов и межрелигиозного диалога. Важнейшей отличительной чертой идеологии мультикультурализма является «признание культурного разнообразия как блага» [15, с. 96].
Важный вклад в обоснование мультикультурной модели нациестроительства внес академик В.А. Тишков. По его мнению, «не только в прошлом, но и сейчас этническое и религиозное разнообразие, а также многонациональность российского народа составляют его богатство и силу. Более того, они – условие стабильности и развития страны. Такая постановка проблемы носит стратегически важный характер, ибо, несмотря на положения Конституции и высказывания Президента страны, в научных и общественных дебатах преобладают мотивы рисков и несовместимостей» [16, с. 8]. Одним из них является отмечаемая исследователями конкуренция гражданской и этнической идентичностей [17]. Однако, по мнению других ученых, «высокая этническая солидарность совмещается с государственно-гражданской солидарностью» [18, с. 192].
Интеграционная и мультикультурная модели российского нациестроительства тесно взаимосвязаны и подразумевают одна другую. Чрезвычайно важной задачей является обеспечение баланса и гармонии между ними. Попытки сделать одну из этих моделей доминирующей неизбежно приведут либо к заведомо обреченному на неудачу проекту «плавильного котла», либо к этнокультурной изоляции и фрагментации российского общества вдоль этнических границ. Однако обе эти возможности чисто теоретические, на практике с большой долей вероятности будет и в дальнейшем реализовываться комплексная политика нациестроительства, интегрирующая российское общество не за счет уничтожения различий, а благодаря эффективному управлению этнокультурным многообразием. В этом смысле принципиальное значение приобретает вопрос о том, на какую из версий интеграции будет делать ставку властная элита – этнокультурную с подчеркиванием особого статуса русского народа и русской культуры или гражданско-политическую. На наш взгляд, более предпочтителен второй вариант. Мы солидаризируемся с позицией о том, что «признание (культурного) разнообразия и права на (культурное) отличие – в сочетании с ориентацией на защиту прав гражданина вне зависимости от его этнической, культурной, конфессиональной принадлежности – должно стать основой российского национального проекта» [19, с. 141]. Не возрождение империи с ее вертикальной политической и этнокультурной структурой, а построение демократического государства с горизонтальным гражданским обществом, образующим нацию свободных граждан, – залог успешного будущего России.
Ссылки:
Pop-Eleches G., Tucker J.A. Communism's Shadow: Historical Legacies and Contemporary Political Attitudes. Princeton, 2017. 344 p.
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Интеграционная и мультикультурная модели нациестроительства в современной России
- Tolz V. Communicative Integration in Nation-states and Empires // Nations and Nationalism. 2019. Vol. 25, iss. 1. P. 85-89. https://doi.org/K11111/nana.12486.
- 2. Brubaker R. Nationalism Reframed: Nation and the National Question in the New Europe. Cambridge, 1996. 202 p. https://doi.org/10.1017/cbo9780511558764.
- Тишков В.А. Усложняющее разнообразие: как его понимать и упорядочить // Культурная сложность современных наций / отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова. М., 2016. С. 7-18.
- Попков Ю.В. Государственная национальная политика России: проблемы и концептуальные лакуны // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2019. Т. 15, № 3. С. 346-366.
- Зорин В.Ю. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации: промежуточные итоги и новые ориентиры // Вестник Российской нации. 2018. № 1 (59). С. 13-30.
- Гаджиев М.М. Национальная политика и межэтническое согласие в полиэтнической России (на примере республики Дагестан) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. № 2 (35). С. 73-80.
- Семененко И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 11. С. 91-102.
- Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 23.01.2012.
- Сампиев И.М. Право народов на самоопределение и конструирование «российской нации» // Современная наука и инновации. 2017. № 4 (20). С. 248-253.
- Ерохина Е.А. Как сконструировать нацию: этносоциальный менеджмент и академическая наука в проблемном поле государственной национальной политики // Сибирский философский журнал. 2019. Т. 17, № 4. С. 124-134. https://doi .org/10.25205/2541 -7517-2019-17-4-124-134.
- Попков Ю.В. Указ. соч. С. 349.
- Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. 06.02.2012.
- См.: Паин Э.А., Федюнин С.Ю. Нация н демократия: перспективы управления культурным разнообразием. М., 2017. 266 с.
- Howard M. The Weakness of Post-Communist Civil Society. N.Y., 2003. 206 p. https://doi.org/10.1017/CB09780511840012 ; Pop-Eleches G., Tucker J.A. Communism's Shadow: Historical Legacies and Contemporary Political Attitudes. Princeton, 2017. 344 p. https://doi.org/10.1515/9781400887828.
- Котова М.В. Социально-психологические факторы принятия политики мультикультурализма в России: аналитический обзор // Культурно-историческая психология. 2017. Т. 13, № 4. С. 91-100. https://doi.org/10.17759/chp.2017130410.
- Тишков В.А. Введение // Этническое и религиозное многообразие России / под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М., 2018. С. 5-10.
- См., например: Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В. Портфель идентичностей молодежи Юга России в условиях цивили-зационного выбора // Социологические исследования. 2010. № 12 (320). С. 18-27.
- Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Гражданская и этническая идентичность россиян: совместимость или противостояние // Российское общество и вызовы времени. М., 2015. С. 176-197.
- Клименко Е.В. Интеграция и различия. О гражданской нации в России // Полис. Политические исследования. 2015. № 6. С. 131-143. https://doi.org/10.17976/jpps/2015.06.13.