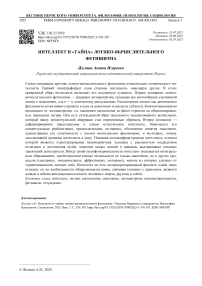Интеллект и «тайна» логико-вычислительного фетишизма
Автор: Желнин А.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия. Психология
Статья в выпуске: 3 (63), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена критике логико-вычислительного фетишизма относительно человеческого интеллекта. Первый гипертрофирует одни стороны последнего, нивелируя другие. В итоге превратный образ интеллекта вытесняет его подлинную сущность. Первое основание логиковычислительного фетишизма — традиция логоцентризма, сводящая все многообразие умственной жизни к мышлению, а его — к логическому рассуждению. Рассмотрение логики как автономного фундамента когнитивного привело к идее ее вынесения за пределы субъекта. Компьютационализм производен от логоцентризма, т.к. машинное вычисление де-факто строится на объективированных принципах логики. Оно есть отчужденный образ подлинного человекомерного вычисления, который ввиду концептуальной аберрации стал нормативным образцом. Второе основание — деформированное представление о самом естественном интеллекте. Намечается его концептуальная реабилитация, предполагающая, во-первых, обогащение понятия мышления, демонстрацию его сплетенности с иными ментальными феноменами, и во-вторых, отмену эксклюзивной привязки интеллекта к нему. Показана полиморфная природа интеллекта, остовом которой является структурирование взаимодействия человека с реальностью посредством полагания и достижения целей, освоения новых знаний и навыков, выстраивания сложных траекторий деятельности. Ввиду своей полифункциональности интеллект оказывается интегральным образованием, задействующим разные модальности не только мышления, но и других процессов (сенсорных, эмоциональных, аффективных, моторных), многие из которых удалены от «гравитационного центра» ratio. Интеллект не есть интериоризированный феномен одной лишь психики: он по необходимости обнаруживается вовне, связывая сознание с праксисом, является живым и гибким воплощением контакта человека с миром, другими и собой.
Интеллект, логика, вычисление, мышление, логоцентризм, компьютационализм, фетишизм, отчуждение
Короткий адрес: https://sciup.org/147252090
IDR: 147252090 | УДК: 130.3:159.9 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-3-376-387
Текст научной статьи Интеллект и «тайна» логико-вычислительного фетишизма
Received: 15.07.2025 Accepted: 26.08.2025
Цель статьи — выявить основания превратного видения интеллекта, задающие оптимизм в вопросе перспектив достижения искусственным интеллектом (ИИ) человеческого уровня. Неслучайно в названии фигурирует отсылка к «Капиталу» К. Маркса. Как товар в своей вещественной форме скрывает человеческие труд и стоимостные отношения, так и ИИ, строясь на превратном образе интеллекта как такового, скрывает одни его стороны и гипертрофирует другие. В итоге по аналогии с товарным фети- шизмом можно говорить о фетишизации интеллекта. Не зря Маркс, пытаясь артикулировать тайну товарного фетишизма, прибегает к образу религии: «Между тем товарная форма и то отношение стоимостей продуктов труда, в котором она выражается, не имеют решительно ничего общего с физической природой вещей и вытекающими из нее отношениями вещей. Это — лишь определенное общественное отношение самих людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения между вещами. Чтобы найти аналогию этому, нам пришлось бы забраться в туманные области ре- лигиозного мира. Здесь продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом» [Маркс К., 2024, с. 97]. Идеология ИИ также в некотором смысле стала религией современности, отражающей реальность в мнимой форме и требующей поэтому своей демистификации.
Меж тем мы не ставим целью осмысление тех социальных трансформаций, которые воплощаются и закрепляются в ИИ, т.к. эта работа уже запущена. Так, М. Пасквинелли предлагает «трудовую теорию машинного интеллекта»: «Внутренний код ИИ заключается в имитации не биологического разума, а разумности труда и общественных отношений… ИИ — проект, направленный на сбор знаний, выраженных в индивидуальном и коллективном поведении, и их перекодирование в алгоритмические модели с целью автоматизации самых разных задач — от распознавания паттернов и манипулирования объектами до перевода с языка на язык и принятия решений. Как это бывает с типичными эффектами идеологии, “ключ” к загадке лежит на самом видном месте… коллективные знания и труд — главный источник самого интеллекта, который извлекает, кодирует и превращает в товар ИИ» (перевод наш. — А.Ж. ) [Pasquinelli М., 2023, p. 2, 12]. Признавая значимость подобной критической политэкономии ИИ, мы используем понятие фетишизма, чтобы сосредоточиться на концептуальных перипетиях, сделавших возможной саму метафору ИИ, ставим задачу показать, что решающую роль в фетишизации интеллекта сыграл логико-вычислительный подход, который и привел к идее его артификации.
Зарождение логоцентрического взгляда на интеллект
Концепт интеллекта возник как субститут понятия «νοῦς» (разум) в лоне Средневековой мысли. Уже Августин полагал, что все в душе должно «повиноваться» ему, а он всем «управлять», «сводить» воедино. В плане познания интеллект возвышается над чувствами, т.к. способен судить о сущности вещей, различать истину и ложь: «…в высшей степени спасительно призваны мы отвратиться от этого мира, целиком телесного и чувственного, и обратиться со всем рвением к Богу, то есть Истине, воспри- нимаемой интеллектом…» [Блаженный Августин, 2005, с. 55–56].
Схоласты реабилитировали привязку разума к логике, признавая ее важным орудием познания. Для Фомы Аквинского интеллект — это способность воспринимания умопостигаемых форм, транзита от одной формы к другой, правильное их сочетание: «Само мышление получает свою определенность от своего объекта, поскольку умопостигаемая форма есть начало интеллектуального действия» [Фома Аквинский, 2006, с. 188]. Интеллект может принимать форму познаваемой вещи, «обладать подобием» ей. Более того, в отличие от чувств, он способен рефлексивно устанавливать истину как такое гилеморфистское соответствие. Основным способом артикуляции истины оказываются суждения, в которых разум соединяет или разделяет формы: «Когда разум составляет суждение о том, что вещь такова же, как и та форма, которую он воспринимает от вещи, тогда он впервые познает и выражает истину. И разум делает это, соединяя и разделяя: ведь во всяком высказывании некая форма, обозначенная посредством предиката, либо прилагается к некоей вещи, обозначенной посредством субъекта, либо отнимается от нее» [Фома Аквинский, 2006, с. 225–226]. Тем самым уже в Средневековье мы находим идею интеллекта как логико-операционального феномена.
Образы логического в Новом времени и Немецкой классике: когнитивизм и спекулятивное гипостазирование
В Новое время подобный логоцентризм стал доминирующим. Прежде всего он обнаружил себя в гипертрофии мышления, расширении его до всего универсума сознания. Совершенно гетерогенные ментальные явления оказались вариациями cogito. Именно в логике Декарт видел основу когнитивной активности. Это никак не противоречит его критике традиционной логики Аристотеля, которую он рассматривал как экспликацию уже известного, и в противовес предлагал логику как инструмент познания нового: «Затем нужно также заняться логикой, но не той, какую изучают в школах: последняя, собственно говоря, есть лишь некоторого рода диалектика, которая учит только средствам передавать другим уже известное нам и даже учит говорить, не думая о том, чего мы не знаем; тем самым она не прибавляет здравого смысла, а скорее извращает его. Нет, сказанное относится к той логике, которая учит надлежащему управлению разумом для приобретения познания еще не известных нам истин» [Декарт Р., 1989, с. 308–309]. Его правила для руководства ума основывались на идее строгой дедукции, которую он в качестве образца стремился распространить на все познание целиком. В итоге логика виделась как универсальная «механика ума». Меж тем Н. Хомский, сам будучи поборником схожего подхода к мышлению, полагает, что для Декарта именно разумное использование языка человеком являлось главным основанием несводимости последнего к «механическому принципу»: «Человек как вид наделен совершенно специфической особенностью… которую нельзя объяснить строением периферийных органов или связать с общими особенностями его интеллекта; она находит свое проявление в том, что можно назвать “творческим аспектом” повседневного пользования языком, когда обнаруживаются такие его свойства, как безграничная множественность целей и свобода от контроля посредством внешней стимуляции… Декарт утверждает, что язык служит как свободному выражению мысли, так и надлежащему реагированию в любом новом контексте» [Хомский Н., 2005, с. 25–26]. Языковая (а значит и мыслительная) активность оказывается творческой и во многом неформализуемой, что ломает представление о полной эквивалентности рационализма с логоцентризмом.
Большое заблуждение также считать, что ло-гоцентризм вызревал исключительно в лоне рационалистической мысли. В эксплицитном виде идея разума как счетного механизма возникает у сенсуалиста Т. Гоббса. Он низвел описанную Аквинатом способность сопряжения или разделения понятий до операций сложения, вычитания, сравнения и т.д. Наконец, Лейбниц артикулировал проект построения логики как калькуляторного оперирования знаками универсального искусственного языка. Именно начиная с него логика начинает уплощаться до системы сугубо формальных операций: «В чем смысл логики? Когда-то, до математизации и превращения логики в искусство логического исчисления, на этот вопрос отвечали так: смысл логики в том, чтобы отделить истинные высказывания от ложных, чтобы показать, как именно из одних истинных высказываний можно получить другие истинные высказывания, не ошибаясь и не выдавая ложное за истинное. Это общее средневековое, а затем и нововременное понимание логики постепенно размывалось ее пониманием как искусства всеобщего исчисления» [Смирнов А.В., Солондаев В.К., 2019, c. 70–71]. Синтаксическая интерпретация логического рассуждения стала преобладать над содержательносмысловой, но в итоге мышление начало парадоксально подвергаться самоотрицанию.
[Кант И., 2020, с. 97]. Наконец, у Канта познающий интеллект всегда сопряжен с практическим разумом, конституирующим и морально регулирующим человеческую деятельность. На основании их нераздельности Л. Нагль указывает на недостаточность ИИ, алгоритмы которого моделируют скромный фрагмент рациональности, «оторванный» от социально и ценностно нагруженного праксиса: «Используемые машинами алгоритмы имеют множество полезных применений. Они механическим образом выполняют задачи подсегмента праксиса, а именно “императивов умения”… Тем не менее этот подсегмент, согласно кантовскому многогранному анализу практического разума, не является праксисом в полном смысле слова… Целевой рациональный подсегмент человеческого рацио остается постоянно, но не всегда в явном виде, встроенным в многосоставную, разнообразную и этически нагруженную среду практического разума» [Нагль Л., 2022, с. 61, 64]. Философия Канта отнюдь не может быть признана «крещендо» логоцентризма, напротив, содержа в себе интенции к его критике и выходу за его пределы.
Концептуальные основы отрыва логики от мышления
Меж тем логика не пошла по Гегелевскому пути, и в XIX в. продолжилась реализация Лейбницевского плана по ее строгой символизации. Под этим предлогом был осуществлен радикальный разворот логики в сторону математики. Парадоксально, но он способствовал обезличиванию логики намного больше, чем гегелевская спекуляция. Именно здесь происходит отвязка логики от мышления, которое, по формулировке Гильберта, замещается логическим исчислением. Последнее есть когерентная система знаков и правил, в пределе лишенных значений: «Мы проявим полную последовательность, если откажемся теперь от всякого значения логических знаков, как в свое время отказались от какого бы то ни было значения знаков математических, и объявим, что формулы логического исчисления тоже сами по себе не означают ничего… Содержательные рассуждения заменяются формальными действиями над внешним видом этих формул, проводимыми по определенным правилам, и тем самым совершается строгий переход от наивной трактовки к формальной» [Гильберт Д., 1998, с. 444–445]. Формализм, который содержался еще у Аристотеля и схоластов, получает эксплицитное завершение.
Однако отчуждение логики от мышления в итоге привело к одностороннему и во многом дефектному модусу ее существования: «Можно предположить, что на рубеже XIX–XX вв. логика сбилась с естественного пути своего развития… В трудах Фреге–Рассела–Гильберта был задан математический тренд развития логики, который доминирует и по сей день. Благодаря широкому использованию математических методов, был получен ряд важных результатов, имеющих общекультурное значение, но переориентация на решение в первую очередь внутриматематических задач привела к ее примитивизации» [Шалак В.И., 2017, с. 8–9]. Это обусловлено тем, что логика порвала с естественным и приоритетным своим предметом, лишившись собственной идентичности. Фреге, исходя из приписывания мыслям и законам их сочленения объективного статуса, призывал к борьбе логики с психологическим и лингвистическим их «обрамлением»: «Мысли не принадлежат отдельному уму, как это имеет место в случае представлений (мыли не субъективны), — они независимы от мышления, они одинаковым образом (объективно) противостоят каждому человеку; они не создаются в процессе мышления, а постигаются последним… Вне-психическая природа мыслей приводит к тому, что любая психологическая разработка логики приносит вред. Более того, эта наука имеет своей задачей очистить логическое от всего ему чуждого, а значит, и от психологического, и освободить мышление от оков языка, вскрывая его логические несовершенства» [Фреге Г., 2020, с. 324]. Такой взгляд был инспирирован ориентацией на математику, парадоксально ставшую внешним нормативным образцом логического для самой логики.
От логоцентризма к компьютоцентризму и за его пределы
Наконец, в XX в. происходит значимое углубление данного подхода, а именно становление в его недрах концепта «вычисление». Прототип данной идеи, заключающийся в уподоблении разума счетному механизму, имел широкое хождение в Новое время. Однако даже несмотря на тесную сцепку логики с математикой, привнесение данного понятия кажется странным. Витгенштейн специально указывал в своем Трактате, что в логике нет чисел и соответственно исчисления [Витгенштейн Л., 2020a, с. 81]. Меж тем вычисление на деле оказывается абстрактным концептом, отнюдь не всегда сопряженным с числовыми процедурами. Усредненно оно стало пониматься как получение результата через конечную дискретную последовательность шагов (выполнение алгоритма). Далее важную роль сыграло создание вычисляющих устройств, начиная с контактнорелейных схем. Их наследники, состоящие из множества транзисторов интегральных микро- схем, продолжают реализовывать машинные операции в двоичной системе исчисления, которая на проверку есть следствие математизации логики. Прогресс вычислительных машин практически продемонстрировал, что логика в качестве схематизма выносима за пределы разума и воплощаема в особых материальных системах [Желнин А.И., 2024].
Вслед за гипостазированием логики произошло гипостазирование вычисления, приведшее к иллюзии, что именно машинное вычисление есть нормативный образец. Однако повсеместное некритичное применение данного понятия начало встречать и скепсис. Примером является тот же Витгенштейн, который писал: «То, что посредством определенных понятий мы вычисляем, а посредством других нет, показывает, сколь разнообразны понятийные инструменты (как мало у нас причин предполагать здесь единство)» [Витгенштейн Л., 2020b, с. 140]. Нет никакого унифицированного идеального вычисления: этот процесс полиморфен, а его значение зависит от контекста употребления. Погружая вычисление в универсум языковых игр, Витгенштейн реантропологизирует его как деятельность, утверждая за ней смысловую нагруженность. Следует напомнить, что реальным прототипом той же машины Тьюринга был живой вычисляющий человек. Таким образом, полноценное вычисление — это всегда антро-померная деятельность. И.Ф. Михайлов, используя идеи Витгенштейна о нарездельности в языковой игре собственно речевой и поведенческой компонент, смыслопорождения через практики коммуникативного употребления, погруженности последних в социокультурный контекст, констатирует: «Компьютер может совершать интеллектуальные операции с информацией, и в какой-то степени участвовать в коммуникации, поскольку семантические и синтаксические правила его языка явно заданы и предпосланы его деятельности. Но он не участвует в той деятельности, которая делает необходимым семиозис. Эта деятельность включает лингвистические и нелингвистические элементы. Витгенштейн описывал ее с помощью метафоры “языковых игр”, а по сути она есть обычная человеческая жизнедеятельность. Если продолжить витгенштейновскую метафору, то думающие машины — скорее фигуры в этой игре, чем игроки. Фигуры, которые замещают игроков в определенных обстоятельствах, но сами вести игру не в состоянии» [Михайлов И.Ф., 2015, с. 91–92]. Коренным изъяном машинного вычисления является отсутствие смысловой нагруженности, порождаемой конкретным контекстом. Более того, смысл первичен и в машинном вычислении; оно возможно только через инициируемую человеком интернализацию смысла в нем: «Смысл и значение не появятся из вычислений, если не заложены туда изначально либо привнесены извне: таков самый простой способ указать на несводимость смысла к вычислению, которое само должно быть осмысленным, чтобы стать вычислением» [Смирнов А.В., 2023, с. 9].
Констатируем, что первый компонент «тайны» логико-вычислительного фетишизма состоит в том, что он длительно вызревал в рамках определенной традиции. Ее ядром являлась эксклюзивная привязка мышления к логике. Переломный момент связан с математизацией логики и созданием сначала абстрактных моделей, а затем и реальных вычисляющих машин. Центральным стал концепт вычисления, который, однако, на проверку оказывается производным от логики: «Понятие вычисления определяется как процесс преобразования одного состояния системы, выраженного данными, сигналами, операциями, синтаксической последовательностью, в другое. Иными словами, под вычислением можно понимать логикоматематическое преобразование информации» [Барышников П.Н., 2022, с. 51]. Объективизация логики подобна фейербахианскому отчуждению, когда отрыв и гипостазирование меняют прототип и модель местами. Но, как было показано, аутентично понятые логическое рассуждение и вычисление не могут быть отделены от других аспектов целостной деятельности, где языковые, коммуникативные и смысловые пласты переплетены и подчас неразличимы.
Реабилитация сущности интеллекта и пролегомены к его целостной теории
Однако это лишь одна сторона. Второе обстоятельство — это длительно существующее и стихийно доминирующее обедненное понимание самого человеческого интеллекта. До сих пор концепции человеческого интеллекта часто строятся на предположении о его эксклюзивной привязке к мышлению: «Оба термина выража-382
ют одно и то же явление. Интеллект — это способность к мышлению. Мышление — процесс, в котором реализуется интеллект» [Ушаков Д.В., 2003, с. 14]. Как мы показали, данный когнитивизм всегда сопряжен с риском скатывания в логоцентризм. Например, Н. Хомский трактует язык как предназначенный для процессов мышления, понимаемых им как особая система вычислений: «Налицо конфликт между эффективностью вычислений и эффективностью интерпретации и коммуникации. Языки всегда решают этот конфликт в пользу эффективности вычислений. Отсюда вывод, что язык эволюционировал как инструмент внутреннего мышления, а экстернализация — процесс вторичный» [Хомский Н., Бервик Р., 2021, c. 126]. Тесная привязка мышления к языку играет на руку данной редукции, т.к. язык с формальнограмматической стороны легко обнаруживает в своем основании логические структуры: «Язык как реальность мыслительного процесса обнаруживает мышление во всем его объеме, во всех его элементах. Не только понятия передаются языковыми средствами, но и вся логическая структура мышления получает свое материальное выявление в языковой форме… со стороны передачи логической структуры мышления язык полностью выполняет свою функцию» [Колшанский Г.В., 2018, с. 19]. Именно эта тесная дискурсивная сцепка позволила ряду логиков (Лукасевич, Фреге) заявлять, что подлинным предметом логики является не мышление, а язык. Последний пишет: «Дело логики по большей части и состоит как раз в борьбе с логическими недостатками языка, который, тем не менее, является для нас неотъемлемым орудием» [Фреге Г., 2020, с. 376]. В этом смысле лого- и лингвоцентризм идут рука об руку.
Наш первый тезис заключается в том, что для адекватного взгляда на интеллект необходимо реабилитировать понятие мышления. Неправомерно было бы отрицать, что оно есть ядро человеческого интеллекта. Однако само мышление обладает многомерной глубиной. Это вполне сообразно с идеями «позднего» Витгенштейна о том, что мышление в качестве понятия может обозначать подчас совершенно различные явления и процессы, так что его смысловая нагруженность опять же диктуется контекстом конкретной ситуации: «“Мыслить”, одно из широких разветвленных понятий. Понятие, которое соединяет в себе многочислен- ные жизненные проявления. Мыслительные феномены разбросаны далеко друг от друга» [Витгенштейн Л., 2020b, с. 70]. Можно пойти дальше и показать, что плюрализм смыслов мышления порожден онтологическим плюрализмом самого мышления как процесса (а точнее, целого семейства сходных процессов) или, если угодно, мышление есть «единство многообразного». Его сущность инвариантна, но она способна проявляться в различных регистрах, так что логико-дискурсивный режим мышления — только один из многих, причем отнюдь не всецело доминирующий. Человек синергично задействует разные модусы мышления, многие из который более связаны с чувственнообразным и эмоционально-интуитивным постижением реальности, чем с чистым ratio. Именно такая гибридная по своей сути когнитивная активность характеризует живой человеческий интеллект: «Интеллект есть ум “во многих направлениях”, использующий разнообразные знания на современном уровне их развития, обладающий способностью целостного восприятия сенсорной информации, которая учитывается в рефлексии… интеллект мы не связываем только с формально понятым логицизмом. Творческий акт включает весь опыт личности, эвристику, волю, эстетическое чутье, а потому способность к рассуждению как познавательному механизму — более содержательная характеристика интеллекта, чем чисто рационалистическая способность к логическому выводу» [Финн К.В., 2021, с. 37]. Иными словами, экстрагированное от прочих сторон психики «чистое» логическое/дискурсивное мышление — не более чем фикция.
Второй теис заключается в демонстрации того, что интеллект не сводится к одному мышлению. Оно оказывается в нем только «первым среди равных», интеллект же понимается как более интегральное образование. Начало такому сдвигу положил Ж. Пиаже, трактуя интеллект как «равнодействующую» многих способов взаимодействия с разноплановой средой: «Восприятие, сенсорно-моторное научение, акт понимания, рассуждение, — все это сводится к тому, чтобы тем или иным образом, в той или иной степени струкутрировать отношения между средой и организмом… Интеллект — это определенная форма равновесия, к которой тяготеют все структуры, образующиеся на базе восрпия-тия, навыка и элементарных сенсо-моторных механизмов» [Пиаже Ж., 2004, с. 9–10]. Пиаже трактует интеллект через его вплетенность в эволюционный процесс усложнения адаптивного потенциала. Вместе с тем он далек от его натурализации. Интеллект во многом позволяет человеку высвободиться из условий конкретной среды, занять активное отношение к ней: «Интеллект с его логическими операциями продолжает и завершает совокупность адаптивных процессов… лишь один интеллект, стремясь к тому, чтобы ассимилировать всю совокупность действительности и чтобы аккомодировать к ней действие, которое он освобождает от рабского подчинения изначальным “здесь” и “теперь”» [Пиаже Ж., 2004, с. 12–13]. Неотделимость интеллекта от более простых модусов взаимодействия с окружением воплощается в том числе в слитности когнитивных и эмоциональных сторон психики. К. Малабу отмечает в этом контексте отличие Пиаже от Бергосона, продолжавшего видеть в интеллекте сугубо логическое начало: «Вопреки утверждениям Бергсона, интеллект — это не логика, которая отворачивается от жизни; скорее, это то, что занимает пространство между логикой и жизнью и обеспечивает встречу между развитием категорий мышления и органическим ростом. Таким образом, изучение интеллекта находится между биологическими теориями адаптации и теориями познания в целом» (перевод наш. — А.Ж.) [Malabou C., 2019, p. 11]. Когниция вырастает из стихии жизни, связь между ней и базовыми органическими диспозициями не теряется ни в генеалогическом, ни в актуальном плане.
Еще один важный шаг сделал Г. Гарднер, начав под предлогом критики т.н. общего фактора интеллекта построение теории множественного интеллекта. Он вслед за Л. Тэрс-тоуном, Дж. Гилфордом, Дж. Кэрролом настаивает на том, что существует целое собрание различных интеллектов: «Все люди обладают не одним интеллектом. Скорее, будучи особенными существами, мы, люди, наделены рядом относительно автономных интеллектов. Большая часть литературы по вопросам интеллекта изучает комбинацию лингвистического и логического интеллектов… Но досконально изучить человека можно, лишь изучив также пространственный, телесно-кинестетический, музыкальный, внутри- и межличностный интеллекты. Эти виды интеллекта есть у каждого из нас — именно это делает нас людьми с когнитивной точки зрения. И все же в каждое отдельное мгновение люди отличаются по своим интеллектуальным профилям в силу факторов наследственности и жизненного опыта» (перевод наш. — А.Ж.) [Gardner H., 2011, p. XII]. Чрезмерная концентрация на логическом и дискурсивном типах является ярким проявлением фетишизма, когда синхронно работают механизмы гипертрофии и исключения. Однако в его теории интеллект не рассыпается на свои партикулярные модусы. Его плюрализация ограничена признанием эссенциального единства, обусловленного общей направленностью на освоение нового, преодоление проблем, принятие решений и выстраивание комплексных стратегий поведения: «Интеллектуальная способность человека должна предполагать наличие определенных умений по решению проблем, благодаря которым человек может устранить проблемы или трудности, с которыми он столкнулся, и, когда это возможно, выработать эффективный продукт. Кроме того, такой набор навыков должен обладать потенциалом формулировать проблемы, тем самым закладывая основы для приобретения новых знаний» (перевод наш. — А.Ж.) [Gardner H., 2011, p. 64–65].
Интеллект оказывается целокупным феноменом, пронизывающим разноплановые пласты психики и интерактивно их объединяющим в сложных модусах жизнедеятельности, отнюдь не только теоретико-познавательных, но и предметно-практических. К. Малабу артикулирует функциональность интеллекта следующим образом: «Знание того, как адаптироваться, как использовать возможности по мере их возникновения, как интерпретировать неоднозначный и неопределенный сигнал, устанавливать сходства или различия там, где их трудно различить, сплетать отношения между элементами, которые, по-видимому, не имеют ничего общего: интеллект, без сомнения, метаморфическая, стратегическая часть жизни» (перевод наш. — А.Ж. ) [Malabou C., 2019, p. 140]. Так, ярким примером несводимости интеллекта к сугубо рассудочной активности является феномен эмоционального интеллекта, который в контексте множества его типов оказывается «заточен» под аффективную сферу: «Мы продолжаем отдавать предпочтение рациональному интеллекту, несмотря на недавний всплеск интереса к эмоциональному интеллекту, который утверждает, что рациональность ограничена и что мы также 384
должны учитывать эмоции при оценке интеллекта. Другими словами, с этой точки зрения, интуиция и способность эмоционально оценивать ситуацию считаются такими же важными, как и “холодный” тип интеллекта» (перевод наш. — А.Ж. ) [Pfeifer R., Bongard J., 2006, p. 12]. Тем не менее, он отнюдь не тождественен эмоциям, взятым самим по себе, но представляет собой способность их рефлексивного понимания и регулирования. В итоге интеллектуальный домен выделяется в психике не путем жесткой искусственной привязки к зонам абстрактного мышления, а органически в ходе направленности на реализацию предельно высокоорганизованных стратегий взаимодействия с реальностью.
Феномен понимания также кажется удачным интегративным признаком интеллекта. Помимо «узкой» трактовки рациональности, уравнивающей ее с дискурсивным мышлением, возможно и более «широкая», видящая в ней общую способность понимания: «Что же следует считать специфическим признаком рациональности? Похоже, его можно найти в концептуальном элементе, который выходит за пределы восприятия и (чувственного) воображения и обеспечивает некоторого рода понимание. Это — широкое понимание рациональности. Его можно сузить, включив в него дополнительное требование некоторой степени абстрактности… Рациональность не обязательно интерпретировать как несомненность. Она может быть характеристикой наших способов пытаться достичь понимания» [Бернайс П., 2000, с. 158–159], так что «мы вполне можем приписать рациональности некое творческое начало» [Бернайс П., 2000, с. 161]. Оно как постижение сущности вещей, конечно, во многом превосходит чувственное восприятие, но отнюдь не противостоит ему, т.к. активно задействует внерассудочные каналы. Интеллект как общая способность понимания есть сложное сообщение рационального, эмоционального, перцептивного и даже моторного, и как целое он неизбежно ослабевает при выпадении хотя бы одного из своих компонентов.
Заключение
Таким образом, иллюзия т.н. «сильного» ИИ во многом покоится на превратном взгляде на природу интеллекта. Этот взгляд можно обозначить как когнитивизм, обнаруживающий в своей сердцевине логоцентризм. Активный процесс символизации логики позволил выразить процессы рассуждения в нейтральном, деантропо-логизированном виде и в итоге привел к идее возможности ее объективного «вынесения» за пределы мыслящего человека. Логические принципы легли в основу как физикотехнического строения вычислительных машин, так и их программно-алгоритмического функционирования. С этих пор логическое затмилось вычислительным, и идея ИИ есть лишь «крещендо» эксплозивного распространения компь-ютационализма.
Вместе с тем вычислительные трактовки разума были бы невозможны без также долго вызревающей тенденции операционализации последнего, репрезентации его в качестве простого исполнителя формальных процедур: «Чем больше идей претерпевают автоматизацию, становятся инструментами, тем менее кто-либо склонен видеть в них мысли, имеющие самостоятельное значение… Всякое предложение, не эквивалентное операции в этом аппарате, кажется лишенным значения непрофессионалу, равно как и ученым, которые полагают, что имеет смысл только символическое и операциональное… Значение, смысл теряются за функцией или действием» [Хоркхаймер М., 2011, с. 28–29]. Это прекрасно сообразуется с всецело синтаксической работой вычисляющей машины, исполняющей последовательности программного кода вне смысловой нагруженности и интенциональной направленности.
Сам интеллект может стать ключом, позволяющим реабилитировать антропологическую составляющую полноценной рациональности. Его холистическое видение рисует его как констелляцию целого ряда качественно различных ментальных феноменов, которые функционально объединены общей интенцией на реализацию целей, преодоление проблем и выстраивание комплексных траекторий деятельности. Он не является всецело интернализированным в психике, а проявляется вовне, будучи так или иначе связан с человеческим полиморфным, но всегда социально и ценностно нагруженным пракси-сом. В условиях гипостазирования логического с последующим приписыванием ему калькуляторного характера указанные пласты остались «в тени». Повторимся, «тайна» логиковычислительного фетишизма двойственна: она заключается не только в искусственному разду- вании одних сторон, но и в сокрытии других. Его осознанное преодоление есть обязательный шаг на пути построения адекватной теории человеческого интеллекта.