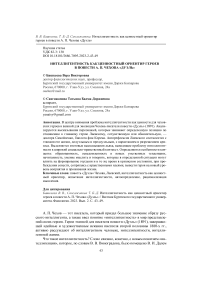Интеллигентность как ценностный ориентир героев в повести А. П. Чехова «Дуэль»
Автор: Башкеева Вера Викторовна, Сангажапова Татьяна Бадма-Доржиевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания проблема интеллигентности как ценности для чеховских героев в важной для эволюции Чехова-писателя повести «Дуэль» (1891). Анализируются высказывания персонажей, которые занимают определенную позицию по отношению к главному герою Лаевскому, сочувственную или обвинительную, - доктора Самойленко, биолога фон Корена. Авторефлексия Лаевского соотносится с этапами его жизни, додуэльным и преддуэльным, с нарастанием и разрешением кризиса. Выделяются итоговые высказывания дьяка, выводящие проблему интеллигентности в широкий социально-нравственный контекст. Определяются особенности концепта: образованность, осведомленность в новых умственных тенденциях, начитанность, умение мыслить и говорить, которые в определенной ситуации могут влиять на формирование гордыни и в то же время в кризисном состоянии, при пробуждении совести, сопрягаясь с нравственными идеями, вывести героя на новый уровень воприятия и проживания жизни.
Повесть «дуэль» чехова, лаевский, интеллигентность как ценностный ориентир, испытание интеллигентности, автоопределение, рационализация мышления
Короткий адрес: https://sciup.org/148326727
IDR: 148326727 | УДК: 82-3: | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-2-43-49
Текст научной статьи Интеллигентность как ценностный ориентир героев в повести А. П. Чехова «Дуэль»
Башкеева В. В., Сангажапова Т. Б.-Д. Интеллигентность как ценностный ориентир героев в повести А. П. Чехова «Дуэль» // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 2. С. 43‒49.
А. П. Чехов — тот писатель, который придал большое значение образу русского интеллигента, а также ввел понятие «интеллигентность» в мир представлений своих героев. Герои этапной для писателя повести «Дуэль» (1891), завершающей идейные и художественные искания писателя второй половины 1880-х гг., активно рассуждают об интеллигентном человеке, интеллигентности, интеллигентной жизни.
Что такое интеллигентность? Слово связано, конечно, с новым понятием «интеллигенция», которое, по словам В. В. Виноградова, было помещено В. И. Далем в 1881 г. во второе издание «Толкового словаря». Даль «объясняет его таким образом: “разумная, образованная, умственно развитая часть жителей” (см. сл. Даля 1881, 2, с. 46)» [3]. Понятие только складывается в 70‒80-е гг. XIX в., и именно А. П. Чехов внес существенный авторский вклад в осмысление данного понятия [4].
Все центральные персонажа повести — Лаевский, Самойленко, фон Корен, дьякон — так или иначе касаются данного понятия. По-своему, оно ключевое в повести, проявляется и в сложности разрыва отношений у Лаевского, и в формировании претензий фон Корена, и в самом состоянии муки и катарсиса, пережитых героем.
Причем выстраивается определенная линия осмысления: Лаевский не определяет себя как интеллигента, но характеризует так Надежду Федоровну — «интеллигентна и горда» [11, с. 354], сам же раскрывается в авторефлексивных монологах задолго до дуэли и перед дуэлью. Более всего главный герой показан как интеллигент его приятелем Самойленко и недругом фон Кореном, занимающими заступническую и обвинительную позиции. Наконец, есть точка зрения дьякона, занимающего как в системе персонажей чеховской повести, так и в идейном полилоге особое место, связанное с его разночинным происхождением и религиозным саном. В целом это по-своему идеологическая повесть, когда практически каждый персонаж высказывает вполне определенные взгляды на жизнь и человека, является носителем определенной системы взглядов. Исследователи неслучайно заметили, что «анализируемую повесть можно уподобить симфонии, в которой сталкиваются и развиваются борющиеся друг с другом, порой заглушающие одна другую, а в итоге — взаимоусиливающие друг друга конфликтологические темы» [8]. Столкновение точек зрения позволяет, в частности, уточнить содержание искомого понятия.
Рассмотрим характеристики, данные Самойленко и фон Кореном личности Лаевского. Для доктора Самойленко понятие «интеллигентный человек» очень ценно, таким он считает своего приятеля, которого не просто уважает, но ставит выше себя. С одной стороны, он видит его недостатки: «пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил не по средствам, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной» [11, с. 359], — но не считает их определяющими. Очевидно, что они не порок для него, а общечеловеческие слабости. А вот что он высоко ценит в приятеле, так это то, что не понимает и что не свойственно обывателям: Лаевский «был когда-то на филологическом факультете, выписывал два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной» [11, с. 359]. В понятие «интеллигентность» входят образованность, обязательно университетская (!) образованность, начитанность, умение говорить умно и непонятно, выбрать себе интеллигентную, читай — образованную женщину из порядочного общества. Понятия «образованность», «ученость» используются в тексте как синонимы, как одно из обоснований интеллигентности. Слабости приятеля Самойленко извиняет, ибо сам факт ума и образованности отдаляет Лаевского как порядочного человека от возможного наказания за долги, лень, бездеятельность.
Лаевский оказывается, таким образом, вознесен на пьедестал лучших, умных людей. Несколько раз в повести будет проведено противопоставление лучших и худших. Для Лаевского в момент приступа ненависти к фон Корену последний — ничтожный человек; таковы и люди, населяющие кавказский городок: «мелкие, никому не известные людишки», «толпа ничтожных людей» [11, с. 427], герой «старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их» [11, с. 437]. Для фон Корена, по словам Лаевского, ближние люди — «щенки и ничтожества», «рабы, мясо для пушек, вьючные животные» [11, с. 398]. Это деление, к которому причастны и Самойленко, и Лаевский, и тем более фон Корен, вносит свои оттенки в понимание интеллигентности как характеристики как будто лучших, но, оказывается, не лучших.
Сочувствующему доктору противопоставлен обвинитель фон Корен. Он как раз критикует и даже развенчивает те социальные слабости, которые извиняет Самойленко. Удивительно, что сходятся они как раз в понимании привлекательных и влияющих на общество особенностей Лаевского, именно фон Корен определяет почти полный их состав: интеллигентность, университетская образованность, благородство манер и литературный язык [11, с. 373]. Частотное выделение в 1880-е гг. университетского образования показывает знание, просвещенность по европейскому типу как, безусловно, положительное явление, как следствие долговременной ориентации русского общества на идеи европейского просвещения, развития науки по европейскому типу и рационализации самого типа мышления современника. Симптоматично, что этот процесс не нов в истории русского общества и литературы, характерен для героев, например, И. С. Тургенева: «Рудин же как мыслящий человек сформировался — вне зависимости от места формирования — в фарватере европейского Просвещения, одной из ветвей которого стали более всего ценимые им немецкая романтическая философия и литература XVIII–XIX вв.» [1, с. 43].
Литературный язык включает в себя помимо правильности и сложности речений, разработанности речи частое обращение к авторитетам: «он, видите ли, Фауст, второй Толстой»; «королевский стрелок и Вильгельм Телль»; «своею нерешительностью я напоминаю Гамлета [10]. Большую роль играет благородство манер, которое, скорее всего, добавляет шарма, и такому человеку «масса, особенно средний ее слой» [11, с. 373], доверяет без сомнений. Интеллигентность — ключ к принятию и одобрению обществом, хотя, по фон Корену, в случае отсутствия ответственности за свои слова и дела интеллигентность дезавуируется, становится почти фальшивой.
Зоолог фон Корен повторит определение интеллигентного человека, добавив новую характеристику: «интеллигентный, либеральный и университетский человек» [11, с. 374]. Исследователи Сулейманова, Зиятдинова как раз утверждают, что в прозе Чехова «основными характеристиками», находящимися в ближайшем окружении слова «интеллигентный» и выступающими к нему синонимами, раскрывающими его смысл, образующими ядро концепта, являются «порядочный» (4 случая употребления), «интересный» (2), «либеральный» (2), «образованный» (2), «университетский» (2), умеющий хорошо говорить (2) [7]. В повести «Дуэль» встречаются синонимы образованный, университетский, порядочный, либеральный, умеющий хорошо говорить.
Знаменательно выделение либеральности как положительной характеристики для масс. Интеллигентность, получается, связана и с вольнодумством по европейскому типу, обычно бьющему по государству с введением в общественный дискурс как западных либеральных идей, так и западного образа жизни. Неслучайно Надежда Федоровна вначале не хочет выходить замуж за Лаевского, потому что «мы потеряем свою свободу» [11, с. 400].
Особое место в осмыслении Чеховым идеи интеллигентности играет главный герой, ведь в его автохарактеристиках представлено много различных идей, в его судьбе происходит перелом от лжи к как будто найденной правде. Имеет место проверка декларируемых гуманитарных ценностей опытом страдания и опытом проживания жизни.
Уже в самом начале Иван Андреевич Лаевский делится своими переживаниями с приятелем Самойленко. Открытие Лаевского заключается в том, что жизнь с интеллигентной Надеждой Федоровной оказалась такая же неинтересная, как жизнь с Анфисой или Акулиной. Образованность, начитанность, приобщенность героини к западным интеллектуальным кумирам (Спенсер) не удерживают героя. Более того, принадлежность героини к интеллигентному кругу не позволяет вести себя с ней неделикатно: нельзя просто распрощаться с ней, оставив ей деньги на первое время. Получается, что именно интеллигентность Надежды Фёдоровны стала причиной неразрешимой проблемы, явившейся завязкой действия.
Лаевский, с одной стороны, разочаровался в своих прежних мечтах, запутался, хотел бежать из южного городка, но мечтать не перестает, на этот раз о жизни в средней полосе России, откуда он в свое время уже бежал. Быть может, этим Чехов подчеркивает удаленность своего героя от реальных потребностей и сложностей жизни. Мечтая об идеальной интеллигентной жизни, Лаевский представляет себе идеализированный завтрашний день таким: «Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь…» [11, с. 363]. По сути, речь идет о новостях культурной, политической жизни, о вовлеченности в них. Мечты Лаевского о желаемой жизни расширяют понятие интеллигентности как просто образованности до осведомленности в политике, культуре, экономике и других областях.
Важнейшей особенностью интеллигента Лаевского является бесконечное говорение — «болтать, болтать» [11, с. 358], желание давать себе автохарактеристики как «лишнему человеку», «неудачнику», «жертве времени», не выходить из состояния рефлексирования. Неслучайно Чехов, говоря Суворину о новом сюжете, отмечал: «Порядочный человек увёз от порядочного человека жену и пишет об этом свое мнение; живет с ней — мнение; расходится — опять мнение» [12, с. 78]. Исследователь называет это склонностью «русской интеллигенции к доктринерству (каждое свое действие интеллигент объясняет не личными склонностями и особенностями, а мнением, убеждением и, чаще всего, теорией)» [5]. В этом смысле чеховский герой, как ни странно, близок грибоедовскому Репетилову и отчасти Чацкому. Обилие слов, попыток автоопределения показывают как неудовлетворенность героя своим настоящим, так и опасность метафизической гибели в бесконечном погружении в рацио.
Все эти самоопределения, попытки идентификации тем не менее не помогают Лаевскому. Исследователи не раз отмечали, что есть зазор между тем, что герой говорит о себе, и тем, кем он является. Герои «из-за стремления казаться в своих собственных глазах и глазах окружающих кем-то, кем они не является, имеют о себе неправильное представление» [6, с. 124]. И претензии им в этом не помогают.
В 17-й главе в ночь накануне дуэли Лаевский переживает сильные, возможно, сильнейшие эмоции в своей жизни. Открываются глаза на себя — настоящего, реального; пробуждается совесть. Он признается себе в том, что плохо образован («учился дурно и забыл то, чему его учили» [11, с. 437]), что он не служил обществу, не искал истину, был равнодушен к людям, не сделал ничего полезного, вел «презренную, паразитную жизнь» [11, с. 437].
Из этого самокритичного монолога можем сделать вывод, что кающийся герой приходит к чему-то настоящему. Интеллигентность начинает напрямую сопрягаться с нравственными идеалами и душевными состояниями: появляется потребность ложь заменить на правду, праздность на труд, скуку на радость, грязь на чистоту, найти Бога и справедливость. То, что было мнением или не ценилось, начинает обретать жизненные контуры и определять судьбу героя. Важно, что измена Надежды Федоровны и дуэль с фон Кореном так потрясли Лаевского, что он наконец-то проснулся, изменился, повзрослел, ушел от болтания к серьезным отношениям, труду и ответственности1.
Дьякон, как мы отметили, занимает в идеологическом противостоянии особую роль. Так, в момент преддуэли, сидя уже в сушильне на соломе, думает о том, что «ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете» [11, с. 442], и к числу их он с полным правом относит Лаевского. Апология Лаевского в том, что тот — хотя и не ценит легких условий своего существования, избалован «хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей» [11, с. 442], — «не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену: “лопаешь, а работать не хочешь”, не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной» [11, с. 442]. Не лучше ли порядочным людям, Лаевскому, фон Корену, «спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попрёков, нечистоты, ругани, женского визга...» [11, с. 442]. Добавим сюда нужду, черствость, грубость и неотесанность в обращении, о которых также печалится дьякон.
Можно понять, что дьякон говорит о пропасти между «порядочными», социально благополучными людьми и грубой массой простых людей, крестьян, городской бедноты, мещан. О чем-то подобном как о массовом представлении о «чеховской интеллигенции» писала Л. Е. Бушканец: образец «доброты, мягкости, отзывчивости, сдержанности и многих других качеств, противопоставленных агрессивности, напористости, грубости человека ХХ‒ХХI вв.» [2]. Дьякон выделяет социальные и культурные характеристики неинтеллигентных людей: нужда, необразованность, невоспитанность. И оправдывает Лаевского именно из-за его интеллигентности, то есть способности тонко чувствовать, быть деликатным, внешне воспитанным.
Рассуждения дьякона в каком-то смысле итожат сюжет и смыслы повести. Неслучайно именно вера в Бога, человеческая интуиция героя, а не декларируемое любопытство, побуждают его скрыто наблюдать за дуэлью и в решительный момент спасти жизнь Лаевскому. Таким образом сама проблема интеллигентности вписывается в более широкий социально-культурный контекст, острота конфликта смягчается, а на первый план выступает вопрос о самых важных критериях в оценке личности — критериях жизни, смерти и реального участия в судьбе другого человека.
Можно подвести итоги, интеллигентность как ценностный ориентир для героев — это прежде всего образованность, осведомленность в новых умственных тенденциях, начитанность, умение мыслить и говорить. Подобные характеристики интеллигентности могут влиять на формирование гордыни и в то же время в кризисном состоянии, при пробуждении совести, сопрягаясь с нравственными идеями, вывести героя на новый уровень восприятия и проживания жизни.
Список литературы Интеллигентность как ценностный ориентир героев в повести А. П. Чехова «Дуэль»
- Башкеева В. В., Филимонова Е. В. Драма героя романа И. С. Тургенева «Рудин»: между Западом и Россией // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. № 1. С. 41‒48. Текст: непосредственный.
- Бушканец Л. Е. А. П. Чехов и «чеховский интеллигент»: некоторые грани литературной репутации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/a-p-chehov-i-chehovskiy-intelligent-nekotorye-grani-literaturnoy-reputatsii (дата обращения: 15.01.2023). Текст: электронный.
- Виноградов В. В. Интеллигенция // История слов. URL: https://wordhist.narod.ru/in telligencija.html (дата обращения: 20.02.2023). Текст: электронный.
- Катаев В. Б. Боборыкин и Чехов. (К истории понятия «интеллигенция» в русской литературе) // Русская интеллигенция: история и судьба. Москва: Наука, 1999. С. 382‒397. Текст: непосредственный.
- Родионова О. И. А. П. Чехов о русской интеллигенции URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/a-p-chehov-o-russkoy-intelligentsii (дата обращения: 15.01.2023). Текст: электронный.
- Калганова В. Е. Художественная функция дуэли в русской литературе XIX века (на примере творчества И. С. Тургенева и А. П. Чехова) // Пушкинские чтения — 2016. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст: материалы XXI научной конференции. Санкт-Петербург: Изд-во ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2016. С. 119‒126. Текст: непосредственный.
- Сулейманова А. К., Зиятдинова Е. В. Особенности представления концепта «интеллигенция» в индивидуально-авторской картине мира А. П. Чехова. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-predstavleniya-kontsepta-intelligentsiya-v-individualno -avtorskoy-kartine-mira-a-p-chehova (дата обращения: 20.02.2023). Текст: электронный.
- Трофимова Р. А., Растов Ю. Е. Конфликтологические идеи повести А. П. Чехова «Дуэль» и его рассказа «Неприятность». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ konfliktologicheskie-idei-povesti-a-p-chehova-duel-i-ego-rasskaza-nepriyatnost-1 (дата обращения: 15.01.2023). Текст: электронный.
- Устинова В. А. Идеи Ф. М. Достоевского в рецепции повести А. П. Чехова «Дуэль» // Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова. 2013. № 1. С. 20‒28. Текст: непосредственный.
- Фокина М. А. Матафорические характеристики персонажей в повести А. П. Чехова «Дуэль» // Верхневолжский филологический вестник. 2020. № 1. С. 59‒65. Текст: непосредственный.
- Чехов А. П. // Полное собрание сочинений и писем: в 30 томах. Москва, 1985. Т. 7. 736 с. Текст: непосредственный.
- Чехов А. П. Письмо Суворину А. С. 24 или 25 ноября 1888 г., Москва // Полное собрание сочинений и писем: в 30 томах. Т. 3. Письма. Окт. 1888 — дек. 1889. Москва, 1976. С. 78‒79. Текст: непосредственный.