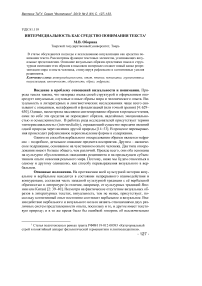Интермедиальность как средство понимания текста
Автор: Оборина Марина Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются подходы к исследованию визуализации как средства понимания текста. Рассмотрены функции текстовых элементов, усиливающих визуальные представления. Описание визуальных образов средствами языка и структурная имитация этих образов в языковом материале создают новый канал репрезентации мира и опыта человека, стимулируя рефлексию и когнитивные усилия реципиента.
Интермедиальность, опыт, чтение, понимание, герменевтика, визуализация, иконичность, образность, образ, экфрасис
Короткий адрес: https://sciup.org/146281431
IDR: 146281431 | УДК: 81.119
Текст научной статьи Интермедиальность как средство понимания текста
Анализ воздействия образов опирается не только на ретроспективное осмысление (развёрнутую рефлексию при остановке процесса чтения), но и на непосредственное (феноменальное) восприятие в процессе чтения. Последующее осмысление имеет дело с замершим, уже воспринятым текстом; в то же время в самом процессе чтения усматриваются не только образы становящегося текста, но и то, каким образом наше сознание справляется с этими образами, какие стратегии это взаимодействие вызывает к жизни. Непосредственное восприятие и интерпретация связаны между собой, но при этом фундаментально отличны друг от друга. Традиционно, интерпретации отводилась основная роль, поскольку считается, что исследователь должен иметь дело с завершённым текстом как конечной данностью. Поворот в сторону более динамичного и меняющегося процессуального понимания (термин Г. И. Богина [1: 3–10]) открывает перспективы изучения того, как тексты осуществляют своё форматирующее воздействие на культуру.
Опосредованность визуального вербальным может быть представлена различными типами текста, обращающегося к читательскому восприятию. Например, референциальная отсылка к другому материалу, цитирование этого другого материала, его описание и имитация его формальной структуры [3]. Пе-ревыражение может быть подчеркнуто специальными средствами (например, звукоподражанием или визуальной формой строк), либо быть почти незаметным и воспринимаемым только в ходе т.н. «медленного чтения». Перевыражение может касаться реально существующего явления, которое описывает вербальный текст, либо выдуманного, несуществующего феномена. Эффекты и функции пе-ревыражения (опосредования, интермедиальности) также отличаются разнообразием. При обращении к реальным и узнаваемым образам, текст полагается на культурную память читателя, вызывая сопереживание или напротив, отрицание образа (и смысла). Если вербальными средствами имитируется несуществующий феномен, текст обращается к опыту читателя, основанному на неразличении художественной и обыденной реальности при действовании со смыслами (т.н. «интенциональное несуществование» - термин Ф. Брентано).
Различные типы опыта, задействуемые при перевыражении, были описаны Джоном Холландером ( John Hollander ) в понятиях «фиктивного» и актуального экфрасиса [9: 209]. Фиктивный экфрасис относится к воображаемым предметам искусства, а актуальный - к реальным. В отличие от фиктивного, актуальный экфразис становится возможным только в контексте массовой культуры визуальных образов. Описание и, особенно, описательная трансформация реальных произведений искусства предполагает, что читатель способен точно вспомнить описываемое произведение. Пограничный случай может быть представлен утраченным произведением, имевшееся описание которого становится по сути фиктивным (например, описание утраченных памятников культуры в художественных текстах, щита Ахилла в «Илиаде»). Две формы экфрасиса демонстрируют строгое различение типов обращения к воображению читателя. Фиктивный экфрасис относится к категории воображаемого, так как создается примерно так же, как и сам художественный мир текста - с опорой на контекст и условность. Описание знакомого объекта, с другой стороны, может столкнуться с проблемой отторжения образа читателем (ср. реакции на экранизации известных текстов), так как созданный образ не соответствует предшествующей визуализации в воображении читателя. Увиденные в фильме образы обладают статичностью и конкретностью, т. е. переходят из разряда фиктивных в разряд реальных образов, приводя к противоречию, которое не находит разрешения. Переводы текстов также часто сталкиваются с отторжением, привнося в свою культуру чуждые ей образы. Актуальный экфрасис пользуется реакцией отторжения для того, чтобы намеренно создать разрыв и напряжённость между предшествующим опытом восприятия реально существующего артефакта и его вербальной репрезентацией. Именно такие напряжённые отношения ведут к созданию эффекта отчуждения, который является одной из продуктивных стилеобразующих стратегий. Разные типы перевыражения создают эффект отчуждения по-своему: подчеркивая границы между разными средствами и материалом, проблематизируя реальность и варьируя степень выдуманности.
Какие функции выполняет вербальное перевыражение визуального? Экспериментальные исследования памяти о прочитанном показали, что как внешняя, так и внутренняя структура текста быстро исчезают из памяти после того, как смысл текста понят. По Г. И. Богину, в опыте остаются следы рефлексивных действований с текстом, которые могут быть активированы в дальнейшем [1: 24-30]. Таким образом, в опыте остаётся т. н. модель ситуации действо-вания с текстом: вербальная пропозиция (содержание) перевыражается в ментальной модели (репрезентации). Это повышает роль образности и средств визуализации в восприятии текста. Ментальные образы основаны прежде всего на визуальном компоненте той или иной степени чёткости; они создаются и корректируются как с помощью опыта действования в реальном мире (предметночувственного опыта), так и с помощью культурного опыта (опыта действования с текстами культуры, опыта невербальных знаниевых схем) [1: 7].
Освоение мира в форме нарратива связано с визуальным восприятием, которое повторяется и закрепляется в культуре [16: 18]. Визуальные (икониче-ские) элементы вербального текста служат пробуждению опыта действования (в реальном мире или мире текстов), поэтому их восприятие сходно с восприятием образов реального мира. Отдельного обсуждения заслуживает т. н. «телесность» образов – сенсомоторные параметры восприятия мира отражаются в икониче-ских элементах текста. Этот феномен в современных когнитивных исследованиях получил название четырехмёрной модели когниции – драматической визуализации, основанной на перенесении телесного опыта познания мира на восприятие текстов культуры (см. [7: 38]. В понимание текста включается техника экспектации, состоящая в построении траектории, «картографировании» ожидаемых смыслов текста (см. [8: 8]. Марко Карачоло ( Marco Caracciolo ) называет это драматической феноменологией текста ( enactive phenomenology ) [5: 118]. Моделирующие средства текста опредмечивают новые смыслы в доступных реципиенту образах.
Образы, создаваемые посредством вербализации визуального, служат своего рода хранилищами информации. Тексты несут в себе коннотации, основанные на более широком культурном образном контексте, к которому реципиенты получают доступ при усмотрении смыслов, опредмеченных в образах. Производство и понимание художественных текстов происходит в контексте как неосознанных (не явленных в развернутой рефлексии), так и осознанных (развёрнутых) рефлексивных актов. Очевидно, что понимание текста – это не ассоциативное связывание его с хранящимися в памяти образами и смыслами, которое происходит, когда все формальные черты и контексты усмотрены. Деятельная природа понимания предполагает интенциональность, т. е. активное участие реципиента в усмотрении смыслов в форме направленности рефлексии на те элементы опыта, которые оптимально пробуждают воспоминания о смыслах. Понимание немыслимо без преобразующей деятельности с текстом, основанной на комбинировании «объективно данного» в тексте и хранящегося в субъективной памяти реципиента. Марк Тёрнер ( Mark Turner) использует для описания этого явления термин «blending» ( смешение ) как обозначение любого акта когнитивной интерпретации, требующего соотнесения несхожих элементов [17: 96].
Таким образом, понимание художественных текстов, с одной стороны, опирается на архив текстов культуры, в том числе в форме визуальных схем и образов, а с другой – на субъективно значимый опыт индивида. Обращение к культуре всегда происходит «здесь и сейчас», что порождает различие в восприятии текстов культуры в разные исторические периоды и отражает актуальные социокультурные контексты.
Конструирование образов и схем в соответствии с принятыми социокультурными нормами происходит и в повседневном общении, приводя к экономии средств в типических ситуациях. Опредмечивание смыслов в узнаваемых образах художественных текстов также позволяет экономить средства, выводя к смысловым мирам при актуальном задействовании в качестве референциальных инструментов только их малой части. Так называемая культурная визуали- зация составляет важную часть отсылок к культурным контекстам в художественных текстах (ранее мы обращались к проблемам контекстов прочтения на примере Античности и Серебряного века [13]).
Визуализации могут различаться как по степени интенсивности, так и по степени развёрнутости. Динамичность потока образов приводит к избирательности остающихся в памяти образов. Так, В. Изер полагает, что образы, которые пассивно создаются в ходе одной сессии чтения [11: 148–150] только сопутствуют чтению, не входя в процесс смыслообразования [11: 136]. Отчасти такая настороженность в отношении образов порождается т.н. иконофобией западной культуры. Недоверие к образам, особенно воображаемым образам, связано с утверждением «увидеть, значит поверить», а увидеть в воображении – значит стать жертвой иллюзии. Вместе с тем, когнитология находит много общего между визуализацией и действительным видением (см. [15: 46]). Несмотря на существенную общность образной визуализации и зрительного восприятия, с точки зрения феноменологии это разные процессы. К главным отличительным параметрам относят устойчивость, насыщенность и отчётливость образов [12: 26–30]. Фиктивные образы не воспринимаются как нечто реальное, и от них не требуется той степени точности, которая присуща увиденным картинам реального мира.
С точки зрения вербального художественного текста расплывчатость и неконкретность образа относятся не к недостаткам, а к преимуществам, т. к. способствуют адаптивности образов в процессе дальнейшего чтения. К основным преимуществам фиктивных образов, в отличие от увиденного в фильме или иллюстрации, относится и их способность пересекаться и смешиваться друг с другом, приводя к созданию новых смыслов. В процессе чтения образы определяют и обусловливают друг друга, а в момент рефлексивной остановки пассивное слияние образов переходит в активную фазу.
Усмотрение смыслов в ходе динамического преобразования образов наиболее эффективно провоцирует такой приём как нарушение экспектаций. Это естественным образом ведёт к созданию эффекта отчуждения, требует переосмысления ранее представленных образов. Экспектации как одна из техник понимания являются первым шагом в индивидуации текста, но индивидуация текста – динамичный процесс. Вербальный текст заставляет читателя отказаться от сформированных в экспектации образов, выйти за их пределы и представить образы, которые в его опыте мышления были невозможны до встречи с данным текстом.
Пример экфрастического усиления образности за счет создания эффекта обманутого ожидания можно найти в начале романа М. Уэльбека «Карта и территория» (Michel Houellebecq ‘La carte et le territoire’). Колоритное описание рисует необычный гостиничный номер, в котором два известных современных художника ведут оживлённую беседу. Ничто не предвещает обмана ожиданий: первый абзац на самом деле представляет собой не начало нарратива и событий, происходящих с героями, а описание картины, запечатлевшей момент беседы. И только когда описание переходит к выписыванию статичных деталей и действий художника, который на ходу поправляет и дополняет картину [10: 1], читатель понимает, что имеет дело с вымышленным образом. Восприятие читателя коренным образом меняется: вместо динамической и потенциально расширяющейся картины возникает ограниченный и вписанный в строгий контекст образ. Осознание и смена экспектаций происходит почти мгновенно; в начале восприятия читатели стараются уловить каждую деталь как потенциально значимую, включённую в дальнейшее развитие событий. Благодаря такому фокусу видения образ получает акцентуацию. Композиционное расположение экфрасиса в начале книги также интенсифицирует восприятие – ведь в начале текста художественный мир только создаётся, и контаминация смыслов, энтропийность – наивысшая в сравнении с более поздними композиционными частями. Неожиданный обман, требующий переосмысления первых впечатлений, – это действенная стратегия текстопостроения. При переосмыслении образа происходит и перефокализация (смена точки зрения). Фокализация в целом считается одним из формально-содержательных элементов текста, способствующих смыслообра-зованию через визуализацию (фокализация – точка зрения), но не сама по себе, а как механизм вовлечения и позиционирования читателя по отношению к тексту и его событийности. Перефокусировка не вызывает отторжения у читателя, т. к. не расходится с его опытом освоения мира в целом, как бы ни был силён эффект обманутого ожидания.
Описания экфрастического плана обращаются к опыту читателя, который регулярно пользуется пространственными и временными средствами организации действительности. Задействуя опыт повседневной жизни, нарративы позволяют автоматически освоиться в художественной реальности (именно поэтому обманутые ожидания важны – так как мешают автоматизации процесса освоения нового по старым шаблонам). С помощью указующих траекторий визуализация ведёт читателя и направляет его взгляд, указывает точку наблюдения, постоянно перемещая его в мире текста. Пример романа Уэльбека показывает, насколько динамика восприятия зависит от характеристик текста, использующих перевыражение визуального в вербальном.
Выводы . Сложность оценки стимулирования визуальных образов посредством вербального текста кроется в зыбкости границы между непосредственным перевыражением визуального в вербальном и текстовой отсылкой. В большинстве случаев, граница между привычными визуализациями, которые сопровождают чтение любого нарратива, и визуализациями, основанными на иконичности или экфрасисе, остаётся размытой.
Вербальное представление визуальных образов оказывает сильное эмоциональное воздействие, постепенно формируя память культуры, замещающую конвенциальные интерпретации образов. Таким образом, основной функцией вербальных визуализаций является смыслообразование, которое продолжается за пределами непосредственного процесса чтения в рефлексии. Когнитивные исследования читательского восприятия не заменяют герменевтических процедур, но предоставляют дополнительные инструменты изучения субъективности восприятия.
Список литературы Интермедиальность как средство понимания текста
- Богин Г.И. Субстанциальная сторона понимания текста. Тверь: ТвГУ, 1993. 137 с
- Оборина М.В. Иконичность и поэтический язык // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 2. С. 39-45.
- Оборина М.В. Иконический потенциал синтаксиса в художественном тексте // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2015. № 4. С. 145-151.
- Bal, M. Visual Narrativity // Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ed. D. Herman, M. Jahn, and M.-L. Ryan. London and New York: Routledge, 2005. P. 629-633.
- Caracciolo, M. The Reader's Virtual Body // Storyworlds, 3 (2011). P. 117-138.
- Esrock, E. Visualisation // Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ed. David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan. London: Routledge, 2005. P. 633-634.
- Fluck, W. Imaginary Space; Or, Space as Aesthetic Object // Space in America: Theory, History, Culture. Ed. Klaus Benesch and Kerstin Schmidt. Amsterdam: Rodopi, 2005. 25-40.
- Herman, David. Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative. Lincoln: University of Nebraska Press, 2002. 452 p.
- Hollander, J. The poetics of ekphrasis // Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry. Volume 4, 1988. Issue 1. P. 209-219
- Houellebecq, M. La carte et le territoire. Paris: Flammarion, 2010. 450 p.
- Iser, W. The Act of Reading. London: Routledge, 1978. 240 p.
- McGinn, Colin. Mindsight: Image, Dream, Meaning. Cambridge: Harvard University Press, 2004. 209 p.
- Oborina M.V. Набросок об Античности как контексте прочтения (на примере «Феодосии» Мандельштама // Les reflets de l'Antiquité Grecque à l'Age d'argent / Modernités russes, vol. 15. France: Centre d'etudes slaves Andre Lirondelle, Universite Jean Moulin, Lyon 3, Lyon, 2015. P. 203-212.
- Rajewsky, I. Intermediality, Intertextuality and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality // Intermédialités, 6 (2005). P. 43-55
- Spolsky, E. Word versus Image: Cognitive Hunger in Shakespeare’s England. Basingstoke: Palgrave, 2007. 240 p.
- Turner, M. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Turner, M. The Art of Compression // The Artful Mind: Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity. Ed. Mark Turner. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 93-114.