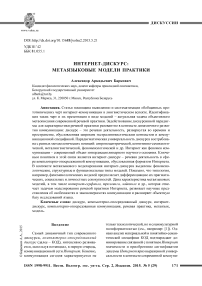Интернет-дискурс: метаязыковые модели практики
Автор: Баркович Александр Аркадьевич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 5 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению и систематизации обобщенных прототипических черт интернет-коммуникации в лингвистическом аспекте. Идентификация таких черт и их презентация в виде моделей - актуальная задача объективного метаописания современной речевой практики. Задействование дискурсивной парадигмы для характеристики речевой практики релевантно в контексте динамичного развития коммуникации: дискурс - это речевая деятельность, развернутая во времени и пространстве, обусловленная широким экстралингвистическим контекстом и коммуникационной спецификой. Парадигматическая универсальность дискурса востребована с разных методологических позиций: антропоцентрической, когнитивно-семиологической, металингвистической, феноменологической и др. Интернет как феномен коммуникации - современный объект интердисциплинарного научного освоения. Ключевым понятием в этой связи является интернет-дискурс - речевая деятельность в сфере компьютерно-опосредованной коммуникации, обусловленная форматом Интернета. В контексте метаязыкового моделирования интернет-дискурса выделены феноменологические, структурные и функциональные типы моделей. Показано, что типология, например, феноменологических моделей предполагает дифференциацию их прагматических, социальных и личностных совокупностей. Дана характеристика метаязыковых моделей, в том числе интернет-серфинга, троллинга, лайкинга и др., которая отвечает задачам моделирования речевой практики Интернета, развивает научные представления об особенностях и закономерностях коммуникации и расширяет объектную базу исследований языка.
Дискурс, компьютерно-опосредованный дискурс, интернет-дискурс, компьютерно-опосредованная коммуникация, речевая практика, метаязык, модель
Короткий адрес: https://sciup.org/14969921
IDR: 14969921 | УДК: 81’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.5.21
Текст научной статьи Интернет-дискурс: метаязыковые модели практики
DOI:
Самый динамичный тип современного дискурса, компьютерно-опосредованный дискурс (далее – КОД), интенсивно развивается, используя потенциал, в первую очередь, коммуникационной сети Интернет. Конечно, коммуникация сегодня характеризуется не только технологической, но и социокультурной полиформатностью (см., например: [1]). Однако анализ материальной и понятийно-семантической специфики КОД подтверждает доминирование связанной с понятием Интернет значимости и приобретение сигнификатом лексемы Интернет ярко выраженной универсальности в контексте современной коммуни- кации [2]. Показательно, что консервативная лексикографическая практика многих языков начала склоняться к фиксации написания – в качестве варианта орфографической нормы – лексемы интернет со строчной буквы (см.: Словари; Слоўнік и др.).
Успешная практическая реализация ин-тернет-формата содействовала кристаллизации понятийной семантики всей сферы современной коммуникации, в том числе коммуникации «компьютерно-опосредованной». Термин компьютерно-опосредованная коммуникация (далее – КОК), появившись в 1984 г. с легкой руки Наоми Бэрон [12], стал ориентиром для развития целой референтной тер-миносистемы: возникли номинации компьютерно-опосредованный дискурс , интерактивный дискурс , электронный дискурс , интернет-дискурс и ряд других (см., например: [14]). Собственно, интернет-дискурс (да-лее– ИД) на сегодняшний день является своеобразной понятийной доминантой в компьютерном опосредовании речи (будучи изначально гипонимичной КОД проблемной областью). Сложность исследования такого динамичного и сложного феномена речевой практики, как ИД предопределяет формирование релевантного методологического аппарата и репрезентацию релевантных языковых отношений в виде моделей [4]. Метаязыковое моделирование ИД, несомненно, является одним из парадигматических приоритетов интернет-лингвистики.
Парадигматическая и коммуникационная специфика современного дискурса
Ядром широкого поля дискурсивной семантики является само понятие дискурс, которое по-прежнему обладает существенным потенциалом развития и является дискуссионным. В контексте постоянно расширяющейся текстовой базы КОК значение и роль дискурсивной методологии возрастают, что выражается в уверенном закреплении дискурса в качестве языковой универсалии, агрегирующей лингвоинформационную специфику сферы речевого функционирования [3]. Тесной является связь дискурса с речью и системой языка, и без задействования дискурсивной парадигмы не только современная лингвистическая теория, но и практика будут неполными и оторванными от коммуникационной действительности.
Постоянное развитие сферы речевой деятельности обусловливает особую роль дискурса как комплесной и функциональной основы широкого круга лингвистических исследований. Более того, для современной науки о языке важна взаимосвязь феноменов и структурных элементов речевой практики: «в отличие от киноленты, язык, как правило, состоит не из отдельных, несвязанных предложений, а, наоборот, из взаимнодетерминиро-ванных, организованных, когерентных групп предложений. Мы рассматриваем такие взаимосвязанные, структурированные совокупности предложений, как дискурс » [18, р. 681] (здесь и далее перевод англоязычных работ наш. – А. Б. ). Тем не менее во множестве учебных пособий по лингвистике отсутствуют не только системная экспозиция дискурса, но даже упоминание о нем. Собственно, теоретическая лингвистика традиционно опирается на более простые языковые уровни, что было действительно целесообразно в «докомпьютерные» времена экстенсивных методов обработки эмпирического материала. Отсутствие презентации дискурса в систематизированных метаязыковых описаниях объяснимо и по другой причине: дискурс не только сложен и современен, но и зачастую растворен в интердисциплинарной парадигматике современной науки.
Как термин, дискурс уже давно не является новацией языкознания, но вместе с тем толкований дискурса существует больше, чем для абсолютного большинства лингвистических терминов. Это свидетельствует об активности процесса формирования понятия и его важности как действительно фундаментального основания метаязыковой практики. Например, в тексте раздела «Определение дискурса» (см. «Языковой круг: личность, концепты, дискурс») у известного дискурсолога В.И. Карасика упомянуты 42 фамилии отечественных и зарубежных ученых, которые прямо или косвенно участвовали в формировании понятия дискурс : Арутюнова, Багдасарян, Бенвенист, Бернстайн, Борботько, Бурвикова, Водак, Гальперин, Гаспаров, Гоффман, Данилова,
Дементьев, де Соссюр, Дюранти, Карасик, Караулов, Клюканов, Костомаров, Кресс, Купина, Лихачев, Макаров, Мыркин, Руберт, Седов, Серио, Сиротинина, Слембрук, Снитко, Сорокин, Стаббс, Степанов, Стернин, То-машева, фон Гумбольдт, Хаймс, Халипов, Халлидей, Ходж, Чернявская, Шаховский, Шмелева [7, с. 188–200]. В статье Т.И. Бельской «Еще раз об определении дискурса» встретилась 21 фамилия исследователей дискурса: Алефиренко, Борботько, Бухарова, ван Дейк, Гурочкина, Демьянков, Дымарский, Карасик, Комарова, Костюшкина, Лазовская, Макаров, Миловидов, Пеше, Прохоров, Пузы-рев, Седов, Серио, Степанов, Трошина, Чудинов [5, с. 20–23]. Вышеприведенные перечни подтверждают: разнообразие мнений относительно определения дискурса действительно велико. Недостаточная определенность дискурса в лингвистическом аспекте в какой-то мере обусловливает неослабевающий научный интерес к его специфике.
Парадигматическая универсальность дискурса может быть актуальна с разных методологических позиций: антропоцентрической, когнитивно-семиологической, металингвистической, феноменологической и др. При этом аутентичность дискурсивной имплементации проявляется как в лингвистическом, так и в универсальном гуманитарном контексте, интердисциплинарных и специализированных субаспектах изучения социокультурной и научно-технической деятельности человека: «дискурс как текстовая реальность не представляет собой органического единства на каком-то одном уровне, которое можно было бы определить, исходя из самого этого дискурса ... всякая отдельная форма дискурса с необходимостью отсылает к ряду его возможных форм» [9, с. 331].
Так, с точки зрения когнитивно-семи-ологической парадигмы дискурс предметно отражает специфику коммуникационной деятельности. Проблемная область дискурсоло-гии существенно расширилась с появлением КОК, более того, появление КОК создало когнитивную ситуацию во многом оригинальную и требующую дифференцированного научного рассмотрения. Характер КОК убедительно свидетельствует о весьма существенной когнитивной разнице между ментальностью человеческого разума и функционированием машин на базе программ искусственного интеллекта: если человек может воспринимать и транслировать данные содержания комплексно за счет сложной структуры каналов восприятия и интерпретации информации – нейронов, то компьютер лишь следует алгоритму таблицы команд по единичным линейным маршрутам [11]. В данном контексте функциональность дискурса, основанного на идеологии тотальной дискретности языковых единиц, вряд ли целесообразно рассматривать как самодостаточную – гораздо актуальнее изучение хотя и опосредованного искусственными семиотическими системами, но когнитивно-значимого дискурса сферы КОК между людьми.
В то же время в металингвистическом аспекте можно говорить о продолжении в контексте «эры» КОК традиций рассмотрения дискурса. Известное с XIV в. значение дискурса – ‘процесс понимания, осмысления, обдумывания’ – значительно изменилось и развилось за семь столетий. Если сравнить современное понимание термина дискурс с интерпретацией Ф. де Соссюра – «ораторская речь» [10, с. 52], можно констатировать, что он весьма существенно прибавил в объеме семантики. Современная металингвистическая интерпретация дискурсивной парадигмы, в первую очередь, обусловлена практической востребованностью понятия дискурс [1]. Сегодня презентация понятия дискурс осуществляется с учетом динамики широкого круга социокультурных отношений и включает в орбиту лингвистики не только результаты речевой деятельности – тексты, но и обстоятельства реализации языка. Дискурс , таким образом, это речевая деятельность, развернутая во времени и пространстве, обусловленная широким экстралингвистическим контекстом и коммуникационной спецификой.
Очевидно, что коммуникационная специфичность ИД как общеязыкового феномена речевой практики существенно возросла со времени изобретения Интернета – пропорционально экспансии интернет-формата коммуникации. При этом содержание ИД позволяет говорить о сохранении в нем идентичности отдельных языков и преодолении ими «барьера» интернет-практики. Например, вполне самодостаточным и показательным фрагментом общей поликодовой сферы ИД является русскоязычная речевая практика: русский язык является вторым в мире – после английского – и наиболее популярным из славянских языков средством коммуникации компьютерно-опосредованного типа (W3 Techs). Более того, русский язык является самым востребованным средством коммуникации в Интернете восточнославянских стран: 79,0 % интер-нет-контента – в Украине, 86,9 % – в Беларуси (W3 Techs).
Итак, для характеристики особенностей создания, модификации и использования речевой продукции КОК по-прежнему существенным концептуальным ресурсом обладает понятие дискурс . При этом в контексте сферы КОК сохраняется высокая актуальность термина компьютерно-опосредованный дискурс , хотя все более релевантной для описания среды функционирования дискурса «новейшего» образца представляется номинация интернет-дискурс , актуальная с точки зрения функциональности современной речевой практики.
Лингвистическая идентичность интернет-дискурса
Интернет-дискурс – речевая деятельность в сфере КОК, обусловленная форматом Интернета. В контексте гиперэкстенсивной речевой практики Интернета для метаязыковой репрезентации так же, как и для сферы традиционной коммуникации, актуальны процедуры моделирования, структурирования, категоризации, стратификации, кластеризации и другие методики. Лингвистический инструментарий эффективен как для кейс-исследо-ваний, так и для комплексных исследований Интернета. Методика моделирования дискурса обладает существенным потенциалом не только для познания закономерностей коммуникации, но и для совершенствования отдельных аспектов коммуникационной практики. Конечно, такие модели, как, например, троллинг, лайкинг, интернет-серфинг и др. (характеристику некоторых моделей см. ниже) стали языковой реальностью de facto раньше, чем были намечены в теоретическом аспекте, однако метаязыковая характеристика уже сложившихся моделей не менее важна для объективной репрезентации ИД, чем изучение его потенциала. Впрочем, представляя собой малоизученную сферу, КОК нуждается в максимально широком спектре лингвистических исследований.
Между тем лингвистические достижения в изучении сферы КОК востребованы в современном научном дискурсе. Интернет как практическое воплощение КОК все чаще сам становится гиперисточником знаний, своеобразной бета-версией матрицы познания. Например, имеются сведения об уверенной идентификации анонимных коммуникационных личностей на основании их речевой практики в социальной сети «Фэйсбук» ( Facebook ): в контексте анализа «лайкинга» – использования анонимными для исследователей коммуникационными личностями функции «лайк» (англ. like – ‘нравиться’) – удалось «угадать» неочевидные для непосредственного изучения характеристики коммуникантов в плане их этнической, политической, религиозной принадлежности, характера, интеллекта, возраста, пола и других отличительных черт [19]. Востребованность функции «лайк» потребовала и актуализации оппозиционного элемента модели – «дислайк» (англ. dislike – ‘не нравиться’) – о чем уже, кстати, заявлено основателем «Фэйсбук» Марком Цукербергом.
Метаописание коммуникационной специфики Интернета результативно в плане как интро-, так и экстралингвистического моделирования. Модели такого рода содержательны в понятийно-концептуальном, номинационном, деривационном, социолингвистическом, психолингвистическом, прагмалингвистичес-ком и других субаспектах дискурсивной парадигмы. Если, например, понятийно-концептуальные, номинационные и деривационные модели характеризуют преимущественно ин-тралингвистические отношения сферы КОК, то прагмалингвистические, социолингвистические и психолингвистические модели отвечают задачам репрезентации экстралингви-стического влияния на развитие референтной значимости.
В интралингвистическом аспекте важной характеристикой ИД является деривационный потенциал самой единицы Интернет. Деривационная продуктивность основы интернет- позволяет охарактеризовать ее как один из наиболее активных деривантов во многих языках. Например, актуальными для «электронной» словарной локализации русского языка оказались около сотни дериватов от основы интернет- (Словари). В перечне только «Русского орфографического словаря» нашлось 44 производных единицы от дериванта интернет- (РОС). По данным «Национального корпуса русского языка» (далее – НКРЯ) в русской речи таких вариантов гораздо больше: первые сто страниц «выдачи» дериватов в виде сложных слов с участием основы интернет- в основном корпусе НКРЯ содержат 135 примеров, многие номинации используются неоднократно (НКРЯ).
Для типологически близкого русскому белорусского языка наиболее актуальными реализациями основы интернет- лексикографические источники считают следующие: інтэрнэт - адрас , інтэрнэт - аператар , інтэрнэт - аўкцыён , інтэрнэт - кавярня , інтэрнэт - карыстальнік , інтэрнэт - клуб , інтэрнэт - крама , інтэрнэт - магазін , інтэр-нэт - партал , інтэрнэт - правайдар , інтэр-нэт - праект , інтэрнэт - рэсурс , інтэрнэт - сайт , інтэрнэт - цэнтр , інтэрнэт - выданне , інтэрнэт - кампанія , інтэрнэт - канферэн-цыя , інтэрнэт - паслуга , інтэрнэт - тэхнало-гія , інтэрнэт - банкінг , інтэрнэт - вяшчанне , інтэрнэт - залежнасць , інтэрнэт - марке-тынг , інтэрнэт - рынак , інтэрнэт - рэклама , інтэрнэт - кафэ – всего 26 единиц (Слоўнік). Примечательно, что в нормативном словаре зафиксированы и інтэрнэт - кафэ , и інтэр-нэт - кавярня – синонимичные варианты одной номинации.
Практика ИД сопровождается активной деривационной динамикой целого лексико-семантического поля, результатом чего являются, например, адаптация и модификация в русском, белорусском и многих других языках «интернациональных» интернет-понятий, таких как виртуальность , контент и многих других. В русском языке за сравнительно короткий срок достиг стадии словарной фиксации целый ряд соответствующих понятию виртуальность лексем: виртуалист ; виртуалистика ; виртуали-стический и виртуальный (РОС).
Результаты деривационного развития другой лексемы – контент – представлены в «Русском орфографическом словаре» пока только одной номинацией контент-анализ (РОС). В аналогичном же «Словаре белорусского языка» подобных номинаций уже три: кантэнт-правайдэр, кантэнт-праект, вэб-кантэнт (Слоўнік). Разница в годах издания процитированных русского и белорусского словарей (2007 и 2012 гг. соответственно) сама по себе невелика по диахронным меркам, но является показателем быстрых темпов развития ИД.
Несомненно, что подобных вариантов в речи гораздо больше, и постепенно они будут отображаться в словарях как единицы узуса. Так, практически нет сомнений в необходимости фиксировать в словарях такую распространенную номинацию, как интернет-контент . Отсутствие интернет-контента в текстах, например, НКРЯ – явление, наверняка, временное, особенно на фоне востребованности метаописаний ИД. Собственно, классический лингвистический корпус НКРЯ содержит показательный в репрезентативном аспекте русского языка объем аутентичного ИД, и частотность лексем Интернет и контент в нем достаточно высока. С единицей Интернет в НКРЯ «найдено 2 259 документов, 6 181 вхождение», для единицы контент – «найдено 60 документов, 169 вхождений»:
ФИФА выиграла судебную тяжбу за свои права в Интернете [Борис Зайцев. ФИФА выиграла судебную тяжбу за свои права в Интернете (2004) // ИТАР-ТАСС, 2004.09.15] и т. д. (НКРЯ).
Таким образом, элементы семантики интернет-контента присутствуют в множестве текстов – пока в дифференцированном виде, поскольку представлены самостоятельными единицами Интернет и контент . В НКРЯ зафиксированы и «узкие» контексты, где лексемы Интернет и контент встречаются в одном предложении:
– Я бы сказал так: в Интернете растет количество контента и пользователей [ФАС стоит пере- смотреть свою позицию в отношении телевизионного рынка (2009.11.25) // 2009/11/25/media/, 2009];
Интернет – это среда, в которой все больше профессионального контента, он поставляется как раз участниками рынка традиционных СМИ [ФАС стоит пересмотреть свою позицию в отношении телевизионного рынка (2009.11.25) // 11/25/media/, 2009] (НКРЯ).
Можно высказать предположение, что интернет-контент как близкая к узусу единица терминосистемы ИД, благодаря возможностям идентификации с ее помощью существенных особенностей КОК – вполне ожидаемое пополнение словарей (тех, в которых ее пока нет). Современная лексикографическая практика стала в контексте ИД гораздо ближе к сфере речевого функционирования (см., например, СС).
Несмотря на инновационность самого ИД, его статистические возможности являются достаточно информативными и относительно «классического» лингвистического потенциала отдельных элементов референтной терминоси-стемы: так, среди 229 968 798 словоупотреблений в НКРЯ обнаружено 1592 словоупотребления единиц, содержащих основу виртуальн- (НКРЯ). Такая статистика свидетельствует о языковой значимости соответствующей семантики. Исходя из широкой семантической валентности лексемы виртуальный можно полагать, что основным развитием ее коннотативной имплементации будет синтаксическая деривация, например, в составе словосочетаний: виртуальный / -ое , / -ая ( виртуальный процесс , виртуальное хранилище , виртуальная реальность и др.). Номинатема виртуальная реальность присутствует уже в десятках словарных источников – для русского языка это примерно 30 источников (Словари) – что свидетельствует о востребованности подобного типа языковых отношений в современной речевой практике.
Семантика сферы КОК характеризуется ярко выраженной интерферентностью – сфера и ее элементы активно развиваются. При этом нормативная идентификация языковых знаков на словарном уровне часто либо запаздывает, либо не учитывает существенную специфику того или иного понятия: «То, что фиксация того или иного деривата в сло- варе – дело случая или субъективных решений при отсутствии определенно выраженных теоретических принципов разделения потенциальных и реальных слов, ярко показывает и любой толковый словарь» [6, с. 185]. Речевая же практика, несмотря на кажущуюся противоречивость, как раз последовательно закрепляет приоритет более мотивированных экспонентов и вариантов. Отсутствие очевидной связи развития той или иной модели речевой практики с известными или логически объяснимыми языковыми основаниями нередко свидетельствует лишь о ее дискурсивной «недо-обследованности». Собственно, интернет-дискурс – статистически убедительная среда существования современной речевой практики – в последнее время стал общепризнанной «лабораторией» лингвистики.
Лингвистическая идентичность ИД как проблема малоизучена, обладая при этом существенным потенциалом. Сфера речевого функционирования в компьютерно-опосредованном формате – это не только форумы, блоги, социальные сети, но и лингвистические корпусы, онлайн-словари, базы данных и др. При этом практически все многообразие содержания КОК доступно благодаря Интернету или все чаще создано в Интернете и для Интернета.
Метаязыковые модели интернет-дискурса
Интернет, являясь гиперкорпусом, состоит из огромного количества текстов и мультимедиа, которые наполнены дискурсивной «материей», требующей релевантных обобщений. Создание и развитие ИД обусловливает не только интерпретацию интра-лингвистической специфики, например, семантики текста (или информации, как эту содержательную субстанцию принято квалифицировать в информатике), но и феноменологические, структурные и функциональные обстоятельства речевой практики, которые коррелируют, в первую очередь, с экст-ралингвистической спецификой дискурса. В контексте презентации и использования в Интернете широкого спектра речевой продукции обобщение ее дискурсивных свойств представляет собой сверхактуальный объект научного осмысления, делая реальными возможности репрезентации гипермодели речевой практики Интернета.
Одним из фундаментальных аспектов моделирования ИД является феноменологический . В данном контексте, согласно предложенной Т. ван Дейком дифференциации признаков дискурсивного процесса, среди моделей дискурса можно отметить их прагматические , социальные и личностные совокупности [15]. Такая дифференциация соответствует методологическому спектру прикладных лингвистических дисциплин – прагмалин-гвистика, социолингвистика и психолингвистика обладают собственной типологической идентичностью. В феноменологическом аспекте в ИД проявляется множество прототипических коммуникационных шаблонов – метаязыковых моделей . Подобные модели могут быть обобщены по разным основаниям: примерами прагматических моделей ИД являются троллинг , флуд , флэйм и др., социальных – дружба (в контексте социальных сетей), лайкинг (использование функции «лайк»), краудсорсинг и др., личностных – коммуникационный персонаж , коммуникационная персоналия , коммуникант и др. В металингвистической репрезентации речевой практики заинтересованы не только рядовые посетители Интернета – «клиенты», но и его операторы, «агенты» ИД. Характеристика моделей ИД актуальна как для создания металингвистического описания категориальной структуры дискурса, так и для практикоориентированного научного сопровождения коммуникации.
Обратимся к примерам. Троллинг как метаязыковая модель в Интернете является активной прагматически ориентированной ролью, имеющей, в свою очередь, собственную субструктуру, которая может быть описана с помощью, например, ситуационных моделей: «участие в интернет-коммуникации», «маскировка личности коммуниканта», «провоцирование агрессии» и др. Номинация тролль, обозначающая субъекта соответствующей метаязыковой модели, создавалась для характеристики коммуникационных личностей, которые сознательно нарушают требования интернет-этикета: «Вы знакомы с рыбалкой? Троллинг – это когда вы забрасываете рыболовные снасти в воду и затем медленно плаваете на лодке, буксируя за собой приманку и надеясь на поклевку. Троллинг в Интернете – того же рода: кто-то “забрасывает” как приманку интернет-сообщение, ждет реакции и получает наслаждение от спровоцированного конфликта. Троллинг – это игра с подменой личности, когда один из участников игры не предупреждает об этом остальных» [16, р. 44]. Термин trolling (англ. – ‘троллинг’) очевидно происходит от соответствующего рыболовного термина – нельзя не согласиться с аргументацией Джудит Донат, которая и описала его впервые. Однако в культуре Британских островов и Скандинавии уже со времен викингов имеется релевантный языковой знак troll (англ. – ‘уродливый карлик или великан’) для обозначения популярного мифологического персонажа. По-видимому, именно последнее обстоятельство и сыграло ключевую роль в создании нового значения «старой» лексемы troll. Вместе с тем троллинг как метаязыковая модель демонстрирует динамику в общекоммуникационном контексте, становясь востребованным клише для характеристики провокационного и агрессивного речевого поведения в «традиционной» коммуникации.
В данном контексте нельзя не отметить богатейшие возможности для реализации метаязыковых моделей ИД, предоставляемые специфической средой коммуникационного взаимодействия и реализации социокультурных практик Интернета – социальной сетью . Социальная сеть как феномен – это интернет-формат для реализации широкого круга коммуникационных функций, объединяющий участников по тем или иным критериям социальной активности. Коммуникация в социальных сетях отражает функциональность целого ряда метаязыковых моделей, развивая практику традиционной коммуникации. Сами по себе особенности разнообразных кодов социальных сетей в последнее время стали популярным объектом исследования. Лингвистические причины изучать особенности речевой практики Интернета в рамках социальной сети очевидны, например, в аспектах идиолектичности, социолектичности, культу-ролектичности и т. д. [1].
Участие коммуникационных личностей как неких абстактных реализаций реаль- ных людей в нестабильных сообществах социальных сетей все меньше обусловлено традиционными социальными связями людей. При этом дискурсивная практика социальных сетей, изменяя концептуализацию понятий, модифицирует такие базовые социальные отношения, как, например, дружба. «Дружить» в том смысле, как это было принято до ин-тернет-эпохи, появления социальных сетей и мобильной связи, – в КОК уже сложно. «Друзья», которых человек находит в Интернете, существенно отличаются от традиционных «друзей детства». Функция добавить в друзья в социальной сети означает специфичную интерактивную возможность знать «закрытые» для большинства новости, факты и события коммуникационной личности («получать уведомления», например). Такая информационная «дружба» – эрзац, который подменяет социальные ценности, но к которому коммуниканты привыкают. Сравнение традиционных представлений о дружбе и опций функции добавить в друзья, например, в социальной сети «Фэйсбук» выявляет значимую специфику соответствующей метаязыковой модели ИД через совокупность предлагаемых сетью как институциональным агентом дискурса фреймов: близкие друзья, знакомые, добавить в другой список, рекомендовать друзей, посмотреть дружбу, пожаловаться / блокировать, удалить из друзей (Facebook). Такие ситуационные элементы субструктуры модели как, например, посмотреть дружбу и удалить из друзей, возможны, пожалуй, только в ИД. Содержание подобной дружбы, как несложно предположить, отдаляет коммуникационную личность от понятийной базы традиционной социокультурной практики, объективно содействуя процессу создания субкультуры. Релевантная проблематика уже закрепилась как полноценный объект социолингвистического анализа, что, безусловно, подтверждает важную роль метаязыковых моделей как объективных обобщений ИД.
Метаязыковая модель ИД коммуникационный персонаж является актуальным шаблоном реализации субъектности КОК и, возможно, наиболее показательным образцом личностной экспликации в аспекте речевой практики ИД. Рамки идентичности коммуни- кационного персонажа обусловлены его деятельностным участием в функционировании ИД, например, регистрацией в конкретном сегменте коммуникационной сети – форуме, блоге, базе данных и т. д. Феноменологические особенности такой метаязыковой модели («модели презентации» коммуникационной личности) раскрываются при рассмотрении ее элементной субструктуры, например, фреймов ник (наименование), аватар (визуальный образ), языковая личность (речевой образ) и т. д. [1]. В коммуникационном персонаже объективно отражаются вполне конкретные проявления дискурсивного процесса, функционирует речевая проекция участника интер-нет-коммуникации. Коммуникационный персонаж более или менее достоверно воплощает субъективные представления человека о его презентации в коммуникационном процессе, его маску, «легенду», реализуя стратегию самопрезентации.
Дискурсивная парадигма, объединяя возможности широкого круга лингвистических методологий, позволяет дополнить феноменологическое дискурсивное моделирование ИД в структурном и функциональном аспектах. Рассмотрение функциональных и структурных моделей является не менее актуальной – чем феноменологическая – проблематикой ИД, отражая вполне самодостаточные предметы метаописаний речевой практики (см., например, [3 и др.]). В аспекте дискурсивной функциональности Интернета динамика сферы речевой практики поддерживается перманентным характером создания, модификации и взаимного влияния (интерактивности) специфических моделей. Показательна в данном контексте дискурсивная взаимообусловленность моделей интернет-серфинга и эффекта стаккато .
В метаязыковой модели интернет-сер-финга в формате Интернета воплотилась известная языковая практика реферирования. Для семиологической характеристики соответствующей модели ИД применима аналогия ‘быстрого чтения’ со ‘скольжением’ в серфинге как виде спорта (англ. surfing), в результате чего в языке закрепилась соответствующая номинация (и метаязыковая модель) – интернет-серфинг. Интернет-серфинг – дискурсивная практика повехностного ознакомления со мно- жеством интернет-источников, без углубленного осмысления текстового содержания, с интуитивным механизмом спонтанного выбора следующих фрагментов гипертекста. Соответствующую номинацию словари зафиксировали уже в 1993 г., практически сразу после начала экспансии Интернета (см.: Online Etimology Dictionary). Неудивительно в данном контексте, что в Интернете можно без труда найти, например, востребованное, по-видимо-му, метаописание «Войны и мира» Л.Н. Толстого объемом в полстраницы – краткое описание сюжетной линии. Причем дискурсивная практика по данному поводу носит массовый и типологический характер. Знакомство с подобным «рефератом» позволяет любому современному «читателю» получить представление о содержательных фреймах многотомного романа, пусть и весьма поверхностное. В Интернете можно «запросить» и отыскать почти все, причем в нужных форме и формате, например, в виде информационных «квантов» – инфор-матем [1, с. 29].
Вот как, в общем положительно, представил свою рефлексию ИД Николас Карр: «Уже гораздо дольше, чем десять лет, я провожу много времени онлайн, ищу и просматриваю страницы, иногда пополняя огромную базу Интернета. Для меня как писателя Всемирная паутина – манна небесная. Исследования, которые когда-то требовали дней работы в книгохранилищах и читальных залах библиотек – теперь выполняются за минуты. Несколько Google -запросов, быстрые клики по гиперссылкам – и я получаю “горячие” факты или содержательные цитаты, которые искал» [13, с. 9]. Парадигматическая «совместимость» интернет-контента и методики моделирования позволяет идентифицировать узловые фреймы (точки пересечения) значимых дискурсивных отношений – металингвистических, функциональных и феноменологических, как в данной ситуации «компетентного осмысления практики».
Формирование поведенческого стереотипа ознакомления с ресурсами Интернета по модели интернет-серфинга инспирирует существенные изменения в человеческом сознании: читать произведения Ф.М. Достоевского или Л.Н. Толстого после «серфинга» по Интернету уже трудно, а воспринимать – еще труднее. Например, когда-то был способен читать «Войну и мир» и Брюс Фридман, патолог медицинского факультета Мичиганского университета, по совместительству ведущий интернет-блога об использовании компьютеров в медицине: «Я почти полностью потерял способность читать и воспринимать длинные статьи в электронном или напечатанном виде. Создавая свои заметки, я просматриваю различные интернет-источники и пишу сравнительно короткие сообщения вроде этого. Также я ограничиваю свои сообщения размером в 200–300 слов, понимая, что мои читатели, как и я, придадут им мало внимания» [17]. Особенности перестройки человеческого мозга в условиях «неограниченного доступа» к Всемирной паутине вполне очевидны и могут быть представлены в виде специфической метаязыковой модели: такой моделью является эффект стаккато. Эффект стаккато – соответствующая манере исполнения музыкального произведения дискурсивная (в определенном смысле психолингвистическая и ментальная) практика краткосросрочного акцентирования внимания на последовательности фрагментов ИД, необязательно текстовых. Будучи метаязыковой моделью, эффект стаккато характеризуется бессистемным, часто хаотичным осмыслением поверхностно изученных информатем.
Как следствие, человеческий разум, получая информацию порциями-файлами, сам приобретает свойство фрагментарности. Безусловно, любая опосредованная компьютерными средствами информация так или иначе структурирована и может быть объектом абстрагирования, но отличия в кластеризации знаний между человеческим мозгом и программами искусственного интеллекта носят принципиальный характер: в том числе в контексте идентификации подтекста, значимой глубины сообщений (см.: [20]). Конечно, основанная на речевой практике Интернета ментальная деятельность в принципе плохо совместима с инстинктом интуитивного освоения реальности человеком. Однако, как показывает практика, коррекция ментальной деятельности может быть весьма существенной – в результате приобретенных «навыков» дискурсивного характера в процессе использования Интернета.
Дискурсивное развитие модели интер-нет-серфинга в модель эффекта стаккато подтверждает системный характер метаязыковых отношений и в ИД, и в дискурсе как коммуникационной реальности. Появление компьютерных технологий значительно усложнило дискурсивную практику. Задолго до появления Интернета (1964 г.) о проблеме несовпадения ассоциативной структуры человеческих знаний и фрагментарной структуры опосредованной «машинами» эрзац-семантики информации КОК писал классик медийной проблематики Маршалл Маклюэн: «Форма переструктурирования человеческой работы и ассоциации определялась процессом фрагментации, который составляет самую суть машинной технологии» [8, с. 9]. Совершенство и отлаженность механизмов когниции человеческого мозга несравнимы с «мелководьем» (по образному выражению Н. Карра) функциональности программ искусственного интеллекта, но в условиях ИД это преимущество, наоборот, делает человека, вынужденного «соревноваться» с машинами, более уязвимым. Дискурсивные особенности эволюции человеческого интеллекта в условиях КОК высококонтрастны в речевой практике Интернета. В свою очередь анализ речевой деятельности в среде Интернета позволяет делать широкие метаязыковые обобщения по широкому кругу релевантной лингвистике проблематики.
Выводы
Дискурсивная парадигма, обладая существенным потенциалом метаязыкового моделирования, эффективна при изучении коммуникации, опосредованной техническими средствами. Метаязыковым описаниям ИД, пожалуй, даже более, чем иным аспектам лингвистики, необходимы учет и дифференциация интра- и экстралингвистических обстоятельств современных условий функционирования речи. Более чем актуальна дискурсивная парадигма и в контексте гипертекстовых массивов Интернета. Изучение Интернета как формата реализации КОК в дискурсивной парадигме является актуальным и перспективным.
В контексте синкретичной современной парадигмы лингвистики метаязыковые модели ИД, несомненно, обладают суще- ственным потенциалом развития. Далек от завершения и процесс кристаллизации понятийной структуры и терминосистемы ин-тернет-лингвистики. В данном контексте методика моделирования доступных для обобщения закономерностей ИД имеет важное значение. ИД как тип дискурса представляет интердисциплинарную проблемную область, релевантную практико-ориентированным метаязыковым исследованиям. Имплементация комплексной дискурсивной парадигмы в исследования речевой практики Интернета позволяет объективно интерпретировать языковую специфику сферы КОК. Совокупность моделей ИД является «открытым множеством» ввиду высокой динамики сферы современной коммуникации. Моделирование речевой практики Интернета развивает научные представления об особенностях и закономерностях коммуникации и расширяет объектную базу исследований языка.
Список литературы Интернет-дискурс: метаязыковые модели практики
- Баркович, А. А. Интернет-дискурс: компьютерно-опосредованная коммуникация/А. А. Баркович. -М.: Флинта, 2015. -288 с.
- Барковiч, А. А. Iнтэрнэт-тэрмiналогiя: асаблiвасцi функцыянавання ў беларускай мове/А. А. Барковiч//Весцi БДПУ. Серия 1, Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. -2014. -№ 2 (80). -С. 86-91.
- Баркович, А. А. Лингвоинформационная специфика компьютерно-опосредованной коммуникации: структурный аспект/А. А. Баркович//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2015. -№ 2 (26). -С. 114-120 -DOI: DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.2.16
- Баркович, А. А. Методологический аспект изучения компьютерно-опосредованного дискурса/А. А. Баркович//Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. -2015. -Вып. 30. -С. 38-48.
- Бельская, Т. И. Еще раз об определении дискурса/Т. И. Бельская//Альманах современной науки и образования. -2009. -№ 8 (27), ч. II. -C. 20-23.
- Голев, Н. Д. Лексическая реализация как функциональная характеристика словообразовательной системы русского языка и количественные параметры ее описания/Н. Д. Голев//Осмь десять: Сборник научных статей к 80-летию И.С. Улуханова. -М.: Азбуковник, 2015. -С. 183-193.
- Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/В. И. Карасик. -Волгоград: Перемена, 2002. -477 с.
- МакЛюэн, M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека/Маршал МакЛюэн. -М.; Жуковский: Канон-пресс: Кучково поле, 2003. -464 с.
- Пеше, М. Контент-анализ и теория дискурса/Мишель Пеше//Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. -М.: Прогресс, 1999. -С. 302-337.
- Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики/Ф. де Соссюр//Труды по языкознанию. -М.: Прогресс, 1977. -С. 31-273.
- Anderson, J. The Ersatz Brain Project: A Brain-Like Computer Architecture for Cognition/J. Anderson, P. Allopenna, G. Guralnik, D. Ferrente, J. Santini//International Journal. of Cognitive Informatics and Natural Intelligence. -2012. -Vol. 6, iss. 4. -P. 22-53.
- Baron, N. Computer Mediated Communication as a force in Language Change/N. Baron//Visible Language. -1984. -Vol. 18, № 2. -P. 118-141.
- Carr, N. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains/N. Carr. -N. Y.: Norton, W. W. & Company, Inc., 2010. -276 р.
- Crystal, D. Language and the Internet/David Crystal. -Cambridge: Cambridge University Press, 2001. -272 p.
- Dijk, T. A. van. Ideology: A Multidisciplinary Approach/T. A. van Dijk. -London: Sage, 1998. -374 p.
- Donath, J. S. Identity and Deception in the Virtual Community/J. S. Donath//Communities in Cyberspace/еd. by Peter Kolloc and Marc A. Smith. -London; N. Y.: Routledge, 1999. -P. 27-58.
- Friedman, B. Lab Soft News: How Google is Changing Our Information-Seeking Behavior/Bruce Friedman. Lab Soft News blog, February 6, 2008. -Electronic data. -Mode of access: http://labsoftnews.typepad.com/lab_soft_news/2008/02/how-google-is-c.html (date of access: 30.08.2015). -Title from screen.
- Jurafsky, D. Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition/D. Jurafsky, J. H. Martin. -New Jersey: Prentice Hall, 2009. -988 p.
- Kosinski, М. Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior/М. Kosinski, D. Stillwell, T. Graepel//Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. -2013. -April 9; 110 (15). -P. 5802-5805. -DOI: DOI: 10.1073/pnas.1218772110
- Searle, J. R. Minds, Brains, and Programs/John R. Searle//Mind design II. Philosophy. Psychology. Artificial Intelligence. Еd. by John Haugeland. -2nd ed., rev. and enlarged. -Cambridge: A Bradford Book, 1997. -P. 183-204.
- НКРЯ -Национальный корпус русского языка. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru (дата обращения: 30.08.2015). -Загл. с экрана.
- РОС -Русский орфографический словарь/отв. ред. В. В. Лопатин. -2-е изд. -М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 2007. -960 с.
- Словари -Словари и энциклопедии на Академике. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://academic.ru (дата обращения: 30.07.2015). -Загл. с экрана.
- Слоўнiк -Слоўнiк беларускай мовы/Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т мовы i лiт. iмя Я. Коласа i Я. Купалы; уклад. Н. П. Еўсiевiч ; навук. рэд. А. А. Лукашанец, В. П. Русак. -Мiнск: Беларус. навука, 2012. -916 с.
- СС -About the Collins Corpus and the Bank of English™. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.mycobuild.com/about-collins-corpus.aspx (date of access: 30.07.2015). -Title from screen.
- Facebook -Facebook. -Electronic data. -Mode of access: https://www.facebook.com (date of access: 30.08.2015). -Title from screen.
- Online Etimology Dictionary. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.etymonline.com/index.php?search=pager (date of access: 30.08.2015). -Title from screen.
- W3Techs -W3Techs -extensive and reliable web technology surveys. -Electronic data. -Mode of access: http://w3techs.com (date of access: 30.08.2015). -Title from screen.