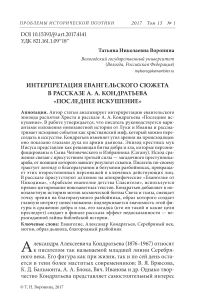Интерпретация евангельского сюжета в рассказе А. А. Кондратьева "Последнее искушение"
Автор: Воронина Татьяна Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи анализирует интерпретацию евангельского эпизода распятия Христа в рассказе А. А. Кондратьева «Последнее искушение». В работе утверждается, что писатель руководствуется вариантами изложения новозаветной истории от Луки и Иоанна и рассматривает исходные события как христианский миф, который можно пересоздать в искусстве. Кондратьев изменяет угол зрения на происходящее: оно показано глазами духа из армии дьявола. Эпизод крестных мук Иисуса представлен как решающая битва добра и зла, которые персонифицированы в Сына Человеческого и Избранника (Сатану). Исход сражения связан с присутствием третьей силы - загадочного преступника-араба, от позиции которого зависит результат схватки. Писатель по-своему трактует легенду о благоразумном и безумном разбойниках, превращает этих второстепенных персонажей в ключевых действующих лиц. В рассказе присутствуют аллюзии на апокрифические «Евангелие от Никодима», «Арабское Евангелие детства Спасителя», используется прямое цитирование новозаветных текстов. Кондратьев добавляет в новозаветную историю мотив космической битвы Света и тьмы, смещает точку зрения на благоразумного разбойника, образ которого создает главную интригу повествования: подчеркивается значимость этой фигуры в сражении добра и зла, его загадка (кто он такой и какие цели преследует) создает в финале рассказа эффект недосказанности - неразгаданной тайны библейской истории.
Евангелие, александр кондратьев, серебряный век, мотив, образ дьявола, благородный разбойник
Короткий адрес: https://sciup.org/14749012
IDR: 14749012 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4141
Текст научной статьи Интерпретация евангельского сюжета в рассказе А. А. Кондратьева "Последнее искушение"
Александра Алексеевича Кондратьева (1876–1967) относят к писателям так называемой младшей линии Серебряного века. Его фигура как при жизни, так и по сей день остается в тени более маститых современников: В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, Вяч. Иванова и др. Однако творчество Кондратьева представляет самостоятельный интерес как оригинальное проявление неомифологизма в литературе. Научное осмысление наследия писателя начинается с выхода в 1990 г. монографии В. Н. Топорова «Неомифологизм в русской литературе начала ХХ века. Роман А. А. Кондратьева “На берегах Ярыни”» [15]. В дальнейшем творчество Кондратьева изучалось в историко-литературном и биографическом ракурсах (О. Седов [12]; Е. В. Шалашов [16]; Е. Г. Таран [14]), в аспекте поэтики (Ю. Б. Орлицкий [7]; С. И. Кормилов [3] и др.), в частности — мифопоэтики, которой посвящен основной массив работ о писателе (Н. В. Шинкарова [17]; А. А. Моисеева [6]; А. В. Коровашко [4]; И. А. Пивоварова [8] и др.). Исследователей интересуют в первую очередь опыты Кондратьева в области художественной реконструкции античных и славянских мифов. Реже внимание ученых привлекает работа писателя с библейскими темами и сюжетами. Так, Н. В. Шинкарова обращается к данному вопросу с целью выявления сквозных архетипических образов и мотивов в дореволюционных сборниках рассказов писателя [17]. С. И. Кор-милова интересует ритмизованная проза у данного автора, в частности, рассматривается весьма смелая интерпретация евангельской истории в рассказе «В пещере» [3].
А. А. Кондратьев в своем творчестве неоднократно обращался к библейским сюжетам и персонажам как в поэзии, так и в прозе. До 1917 года в основном это были попытки посмотреть на евангельскую историю с другой точки зрения, как бы из противоположного «лагеря». В стихотворении «Люцифер» из первого сборника писателя «Стихи А. К.» 1905 года нарисован романтический образ дьявола, парящего в «беспредельном пространстве»1; сонет «Пусть Михаилом горд в веках Иегова…», получивший премию на конкурсе 1906 года за лучшее литературное изображение сатаны (см. об этом: [11]), написан от имени последнего. Озаглавленное цитатой из Евангелия от Иоанна стихотворение «В доме отца моего обителей много…» (сборник «Черная Венера» 1909 года) намекает на демонологический мир, взывающий к своему властелину. В высоко оцененном А. Блоком рассказе «В пеще-ре»2 (1906) выворачивается наизнанку новозаветный смысл эпизода воскресения Христа. Эксперименты А. Кондратьева с евангельскими сюжетами (впрочем, как и с античными, доминирующими в этот период в творчестве писателя) прошли в русле умонастроений Серебряного века, когда деятели искусства «усвоили, что миф не является “святым достоянием старины” и чем-то безвозвратно минувшим и что новое время творит новые мифы, изначальными авторами которых вполне могут быть писатели и поэты» [10, 239].
После революции 1917 г. и вынужденной эмиграции меняется как круг интересующих Кондратьева тем, так и характер использования библейского материала. Так, в двух стихотворениях 1919 г. «В церкви в день Успенья» и «В день Покрова» возникают иконописные светлые лики Богоматери и Спасителя, к которым лирический герой обращается с молитвой. В романе «На берегах Ярыни» (1930) писатель вновь возвращается к образу дьявола, однако данный инфернальный персонаж здесь изображен как однозначно безобразный внешне и по сути своей разрушитель всего и вся и лишен какого бы то ни было романтического ореола.
Рассказ «Последнее искушение» вошел в состав сборника «Белый козел» (1908), но, вероятно, написан был значительно раньше. Произведение относится к первому периоду творчества Кондратьева, когда писатель был близок к кругу символистов и испытал влияние идей Вяч. Иванова, что выразилось в интересе к «древнему хаосу»3 и связанному с ним демоническому созидательно-разрушительному дионисийскому началу. В основу сюжета рассказа лег центральный эпизод Нового Завета — распятие Христа, причем автор преимущественно руководствуется вариантами изложения данной истории от Луки и от Иоанна. Как и у евангелистов, смерть Спасителя выступает в «Последнем искушении» как главное событие, ради которого Он приходил на землю. Думается, что Кондратьев воспринимает исходную историю как христианский миф и рассматривает ее в характерном для символистов русле: «…как выражение исходных и основных черт человеческой культуры, ее Первоначал и Первоистоков» [5, 62] и как материал, который можно пересоздать в искусстве. Писатель дает собственное прочтение евангельской легенды и, оставляя фабулу без изменений, с помощью дополнительных деталей и персонажей смещает акценты в известных событиях. При этом он действует в рамках рациональной «описательной модели» (см. об этом: [9]) применения мифа в творчестве: излагает авторскую версию известного сюжета без соотнесенности с современностью.
Первое, на что обращаешь внимание при прочтении рассказа, — личный повествователь, обозначенный автором в подзаголовке: «рассказ духа». Далее по тексту становится понятно, что речь идет о бесе, одном из неисчислимой армии Сатаны. Дух предстает как наблюдатель, он не участвует в происходящем, а внимательно следит за всем со стороны, фиксирует детали, осознает важность и масштаб события. Тем самым создается впечатление, что действие свершилось только что, а не в далеком прошлом, ибо для повествователя история разворачивается в актуальном настоящем, и от ее финала зависит и его судьба. И перед читателем не «предания старины глубокой», а хроника недавних событий. Такой эффект усиливается многократным употреблением глаголов несовершенного вида: « я видел», «победа носилась», «он готовился», «губы шептали», «военная стража говорила», «народ вопил» и т. п.
Дух-рассказчик неиндивидуализирован: у него нет ярких речевых особенностей, личного отношения к происходящему, отсутствуют указания на черты внешнего облика и характера. Он — часть сонма демонов, один из многих, что подкрепляется выражениями вроде «мы знали» , «многие из нас» и т. п. Характерно, что повествователь в тексте назван нейтральным словом «дух», а не бесом, но о его принадлежности к нечистой силе можно судить только по самоидентификации рассказчика с армией Сатаны ( «один из наших» ) и по осведомленности о ее планах. Кондратьев сознательно меняет точку зрения на новозаветные события казни Христа, смещая ее в сторону противоположного лагеря (такой прием характерен для его творчества). Писатель стремится поведать историю изнутри и с позиций свидетеля-оппонента, создать тем самым эффект остранения.
Однако характер повествования остается весьма отвлеченным, как бы приподнятым над обыденностью. В тексте отсутствуют личные имена, почти нет упоминаний о географической привязанности действия, деталях быта и приметах эпохи. В фокусе внимания автора — герои-константы, образы-топосы, изображенные как вневременные и внепространственные сущности: Сын Человеческий, Его Мать, Его ученик, разбойник, дух тьмы.
Эпизод распятия Христа в «Последнем искушении» интерпретируется в духе раннехристианских дуалистических течений как решающая битва Добра и Зла. Этот мотив звучит уже в первых словах рассказа: «Приближалась последняя борьба»4. Противостояние дьявола и бога принимает характер классического библейского испытания: Сатана, вселившийся в тело одного из распятых разбойников, искушает Иисуса, предлагая ему сойти с креста, а Спаситель должен противостоять искушению. При этом в небесах парят мириады ангелов, к Иерусалиму движутся легионы нечистой силы, но исход сражения зависит не от соотношения сил, а только от личной стойкости Христа и его решимости выполнить до конца свою миссию. Такая интерпретация сходна с учением гностиков, в котором «смерть Иисуса трактовалась как победа над космическими силами зла, освобождение от них» [11, 270]. Но, в отличие от представителей гностицизма, не признававших человеческой природы Христа, у Кондратьева Спаситель «должен был страдать и умереть, как человек» (125). Силы Сатаны с самого начала предчувствуют свою обреченность на неуспех, но, исполненные отчаяния, предпринимают последнюю попытку вырвать победу. Демоны не пассивно наблюдают за противостоянием Иисуса и его искусителя. Они соблазняют Сына Человеческого, апеллируя к его же собственным словам о семени «А иное упало на камень и взошед засохло, потому что не имело влаги» (Лк. 8:6): «Семя слов Твоих упало на каменистую почву. Народ этот недалек и себялюбив, а потому слова Твои ему не понятны. Кто хочет успеха у толпы, тот должен действовать на ее чувство и воображение. Им нужно чудо» (126). Бесы подстрекают жаждущую зрелища толпу выкрикивать: «Сойди со креста!» — и под видом назойливых мух усиливают страдания распятых.
Вслед за евангелистами Кондратьев не описывает Христа, а скорее представляет Его. Образ Спасителя нарисован предельно обобщенно, он складывается из немногочисленных реплик
Иисуса, цитируемых по Писанию, и крайне скупых деталей, напоминающих о крестных муках («кровь текла по Его ладоням и капала на землю» (126), «лицо Его изобразило страдание» (128)). Христос ни разу не называется по имени, что связано не только со специфическим повествователем, но и с общим тоном рассказа. В абстрагированных именованиях акцентируются разные функции образа, а сам персонаж безошибочно идентифицируется читателем: Сын Человеческий (человеческая ипостась Бога); Обреченный, Божественный Страдалец, Распятый (земная миссия страдания и искупления); Божественный Противник / Соперник (противостояние мировому злу, воплощенному в Дьяволе). Иисус изображен как борец, сознательно избравший свой путь и идущий им к намеченной цели: «Но Он вперед знал все это и обрек Себя на смерть, помня, что только она может дать ему торжество» (124). Несмотря на то, что внимание всех приковано к Спасителю, он абсолютно одинок, что во многом является его добровольным выбором. Между Христом и Его Матерью, стоящей у подножия креста, происходит мысленный диалог, в который Кондратьев вплетает цитаты из Евангелия от Иоанна (Ин. 19:26–27): «“Сын мой, Ты рано покидаешь Меня, на кого оставишь Ты свою злополучную Мать?” — казалось, говорили глаза Той, что была старше других. “ Жено, се сын Твой , — как бы в ответ Ей сказал наш Противник и прибавил, обращаясь к любимому ученику, который один из двенадцати не оставил Его в минуту конца: Се матерь твоя! ”» (127) (дословные совпадения с текстом Евангелия выделены мной. – Т. В. ). Здесь упоминается и фигурирующий у Иоанна любимый ученик, которому Спаситель перепоручает Матерь Свою, как единственный оставшийся с наставником до смертного часа.
Антитеза Бога и Сатаны представлена как традиционная антиномия света и мрака при безоговорочном преимуществе первого, что подчеркивается графически: «Сын Света» и «дух тьмы» . Дьявол в тексте — не столько конкретная персона, сколько часть рассеянного множества. Он — «один из наших великих духов», «Избранник наш», то есть уполномоченный представитель темных сил. Его адский план состоит в том, чтобы «разделить судьбу Божественного Противника»,
«соблазнить и умереть», пережив «перед этим все муки и ужас расставания с жизнью» (125). Дьявол хочет уравнять себя с Христом в униженности перед толпой, страдании и казни на кресте. Сатана принимает человеческий облик, действует в обличье осужденного на распятие разбойника, но его инфернальная сущность подчеркивается повторяющейся деталью: взоры его «пылающие», «сверкали, как раскаленные угли» (125). Равные телесные муки, испытываемые персонажами, усиливают антитезу божественного и демонического, которая проявляется в поведении героев: «Сын Человеческий молчаливо претерпевал страдания и насмешки» (126) — «Избранник метался на кресте, вызывая соболезнования даже у привычных римских воинов» (128). Евангельскую реплику безумного разбойника («если Ты Христос, спаси Себя и нас» (Лк. 23:39)) Кондратьев разворачивает в страстный безмолвный монолог-мольбу, которым Сатана надеется поколебать решимость Иисуса: «Если ты Сын Божий, милосердный, сойди с креста и спаси Себя и нас. Слышишь? Себя и нас! И мы ведь страдаем. Докажи нам любовь Свою!» (127). Дух тьмы делает ставку на сострадание Христа к чужим мукам: если Спаситель готов вынести испытания один, то готов ли Он также не помочь собратьям по кресту и обречь их на пытку и смерть? Слова искусителя попадают в цель: Сын Человеческий вздрогнул, и «лицо Его изобразило страдание» (128).
Здесь уместно обратиться к ключевому персонажу рассказа, который создает главную интригу и вводит в повествование мотив тайны. Это второй распятый разбойник. Его появление в тексте окружено атмосферой загадочности: Сатана почему-то смотрит на него с недоумением, «ангел, реявший над шествием, показал другому мечом на этого человека и сказал ему что-то, и другой ангел кивнул в ответ головой» (126). Такие странные обстоятельства привлекают внимание духа-рассказчика, он обеспокоен, но не понимает, в чем дело. Силы добра и зла явно связывают с этой таинственной личностью какие-то ожидания, становится понятно, что от нее в чем-то зависит исход решающей битвы. Данный разбойник — единственный персонаж, чей портрет и элементы биографии даются в рассказе: «Это был высокий, мускулистый, загорелый араб, спокойно следовавший позади товарищей по казни» (125). Интересно, что рядом с такими символическими, обобщенными, не связанными с конкретным этносом фигурами, как Сын Человеческий и Избранник темных сил, возникает араб, в прошлом у которого — грабежи на побережье Мертвого моря. В толпе у Голгофского холма шепчутся, «что он не трогал бедных и даже помогал им» (125). Возможно, это аллюзия на апокрифическое «Арабское Евангелие детства Спасителя», в котором приводится история встречи бежавшего в Египет Святого семейства с благородным разбойником Титом. Он уберег Иосифа, Марию и Иисуса от нападения своих товарищей, и в связи с этим благим делом юный Христос произносит пророческие слова: «Распнут, о мати, Меня через тридцать лет иудеи в Иерусалиме, а два разбойника эти со Мной на одном кресте повешены будут: Тит — одесную, и ошую — Думах. На другой же день внидет передо Мною Тит в Царствие Небесное» [13, 384]. С одной стороны, в рассказе араб подается как Робин Гуд первых лет христианства, с другой — он все равно остается загадкой для окружающих, так как его прошлое — лишь предмет предположения собравшихся посмотреть казнь людей («в толпе слышалось…» (125)).
Кульминацией «Последнего искушения» является диалог между разбойником и Христом. Выслушав смущающие душу слова Сатаны, Иисус поворачивается к другому сотоварищу по казни. Далее в рассказе нагнетается атмосфера напряженного ожидания реакции араба: «Мы ждали с нетерпением, что произойдет. Ждал Избранник. В небе ждали ангелы…» (128) (курсив мой. – Т. В.). Многократные повторы, троеточия, упоминание о воцарившейся тишине создают ощущение внезапно остановившегося времени. Избранник «впился взорами» в разбойника, последний становится в этот момент центром великого события, и все обставлено так, будто от его поведения зависит исход космической битвы добра и зла. Слова распятого преступника воспроизводят текст Евангелия от Луки (23:42): «Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Свое царство!» (128). Тем самым разбойник не только напоминает Христу о его миссии, что прямо отмечается в рассказе, но и проявляет солидарность со Спасителем, высказывает веру в Его божественную сущность. Ответ Иисуса опять отсылает к новозаветным строкам (Лк. 23:43): «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю!» (128). Характерно, что все предыдущие диалоги в рассказе — мысленные, и только эти, решающие, фразы произносятся вслух, акцентируя тем самым важность и торжественность переломного в ходе действия момента. После слов Христа дух-рассказчик лаконично заключает: «Все мы поняли, что наше дело проиграно» (128). На этом сцена распятия обрывается, упоминается лишь растущая на горизонте черная туча — реминисценция на евангельское «и померкло солнце» (Лк. 23:45) — то спешит отчаявшееся войско сил тьмы.
В финале загадочный разбойник вновь оказывается в фокусе внимания рассказчика. Дух рассуждает о том, кто бы это мог быть: «Но кто был этот загадочный человек? Да и человек ли это был? Души его мы так и не видели. По-видимому, он заключил какое-то соглашение с Избранником и нарушил его» (129). Тайна остается нераскрытой. По туманным намекам можно предположить, что это мог быть тот самый одним из первых попавший в рай благоразумный разбойник, который упоминается в апокрифическом «Евангелии от Никодима» [1]. В то же время под личиной неизвестного преступника могла скрываться некая третья мистическая сила, разыгравшая свою карту в схватке божественного и дьяволического. Автор не дает ответа, сознательно сгущая атмосферу таинственности вокруг персонажа. Рассказ заканчивается словами, подводящими итог произошедшему: « Если это человек, то, во всяком случае, он единственный из людей, признавший Бога в Распятом на кресте, осмеянном и униженном преступнике» (129) (курсив мой. — Т. В. ). Здесь сама постановка вопроса наталкивает читателя на мысль об участии в битве добра и зла неназванной силы, принявшей облик благоразумного разбойника.
Таким образом, в интерпретации Кондратьева евангельская история распятия Христа представлена как решающая битва добра и зла, которые персонифицированы соответственно в Сына Человеческого и Избранника. При этом результат сражения связан с присутствием третьей силы — загадочного преступника-араба, от позиции которого зависит исход схватки. Писатель по-своему трактует легенду о благоразумном и безумном разбойниках, превращает этих второстепенных евангельских персонажей в ключевых действующих лиц. Кондратьев изменяет угол зрения на события, показывая их глазами духа, представителя сил тьмы, в чем проявляется стремление художника дать новый взгляд на известные обстоятельства.
Автор использует евангельские тексты, порой прибегает к прямому цитированию, однако изменяет содержание новозаветной истории не только введением мотива космической битвы Света и тьмы, но и смещением точки зрения на благоразумного разбойника. Образ его создает главную интригу повествования: подчеркивается значимость этой фигуры в сражении добра и зла, его загадка (кто он такой и какие цели преследует) создает в финале рассказа эффект недосказанности — неразгаданной тайны библейской истории.
THE INTERPRETATION OF THE EVANGELIC PLOT
Дата поступления в редакцию: 10.09.2014
Список литературы Интерпретация евангельского сюжета в рассказе А. А. Кондратьева "Последнее искушение"
- Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых/сост., вступ. ст. и коммент. И. С. Свенцицкой, А. П. Скогорева. -М.: Когелет, 1999 . -URL: http://lib.ru/HRISTIAN/apok3.txt (04.04.2014).
- Блок А. А. Записные книжки 1901-1920/сост., подгот. текста, предисл. и прим. В. Орлова. -М.: Худож. лит., 1965. -663 с.
- Кормилов С. И. Метризованная проза в произведениях А. А. Кондратьева на античные и древневосточные темы//Филологические науки. -2009. -№ 5. -С. 19-28.
- Коровашко А. В. Заговоры и заклинания в русской литературе XIX-XX вв. -М.: Изд-во Кулагиной -Intrada, 2009. -364 с.
- Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов//Минц З. Г. Поэтика русского символизма. -СПб.: Искусcтво, 2004. -С. 59-96.
- Моисеева А. А. Реконструкции славянских мифов в поэтических циклах К. Бальмонта, С. Городецкого, А. Кондратьева//Филологические заметки. -2012. -Т. 1. -№ 10. -С. 177-181.
- Орлицкий Ю. Б. «Близнечные тексты» в стихах и прозе А. А. Кондратьева//Александр Кондратьев: исследования, материалы, публикации/отв. ред. Е. М. Васильев. -Ровно: Волиньскi обереги, 2008. -С. 14-23.
- Пивоварова И. А. Поэтика мифологической прозы А. А. Кондратьева: автореф. дис. … канд. филол. наук. -Волгоград, 2013. -20 с.
- Полонский В. В. Вяч. Иванов и И. Анненский: к проблеме «двух моделей» античности на рубеже веков//Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1/отв. ред. К. Ю. Лаппо-Данилевский, А. Б. Шишкин. -СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2010. -С. 377-390.
- Розанов Ю. В. Фольклоризм А. М. Ремизова: источники, генезис, поэтика. -Вологда: ВГПУ, 2008. -267 с.
- Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. -М.: Политиздат, 1987. -336 с.
- Седов О. Мир прозы А. А. Кондратьева: мифология и демонология//Кондратьев А. А. Сны: романы, повесть, рассказы. -СПб.: Северо-Запад, 1993. -С. 5-6.
- Скогорев А. П. Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие детства Спасителя. Исследования. Переводы. Комментарии. -СПб.: Алетейя, 2000. -480 с.
- Таран Е. Г. Александр Кондратьев и московские символисты//Русская литература. -2012. -№ 3. -С. 163-169.
- Топоров В. Н. Неомифологизм в русской литературе начала XX века. Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни». -Trento: Vevzlin, 1990. -326 с.
- Шалашов Е. В. Творчество А. А. Кондратьева 1899-1917 гг: дис. … канд. филол. наук. -Череповец, 2004. -173 с.
- Шинкарова Н. В. Мифопоэтика рассказов А. А. Кондратьева: сквозные архетипические мотивы и образы: сборники «Белый Козел», «Улыбка Ашеры»: автореф. дис. … канд. филол. наук. -Ульяновск, 2008. -19 с.