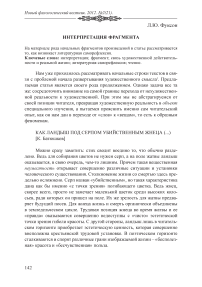Интерпретация фрагмента
Автор: Фуксон Леонид Юделевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (21), 2012 года.
Бесплатный доступ
На материале ряда начальных фрагментов произведений в статье рассматривается то, как возникает литературная саморефлексия
Интерпретация, фрагмент, связь художественной действительности и реальной жизни, литературная саморефлексия, чтение
Короткий адрес: https://sciup.org/14914336
IDR: 14914336
Текст научной статьи Интерпретация фрагмента
КАК ЛАНДЫШ ПОД СЕРПОМ УБИЙСТВЕННЫМ ЖНЕЦА (...)
[К. Батюшков]
Можно сразу заметить: стих сводит воедино то, что обычно разделено. Ведь для собирания цветов не нужен серп, а на поле жатвы ландыш оказывается, в свою очередь, чем-то лишним. Причем такая вещественная неуместность открывает совершенно различные ситуации и установки человеческого существования. Столкновение жизни со смертью здесь предельно осложнено. Серп назван «убийственным», но такая характеристика дана как бы именно «с точки зрения» погибающего цветка. Ведь жнец, скорее всего, просто не замечает маленький цветок среди высоких колосьев, ради которых он пришел на поле. Их же зрелость для жатвы предваряет будущий посев. Для жнеца жизнь и смерть органически объединены в земледельческом цикле. Трудовая позиция жнеца во время жатвы и ее «правда» оказываются совершенно недоступны с «чисто» эстетической точки зрения гибели красоты. С другой стороны, ландыш лишь в читательском горизонте приобретает эстетическую ценность, которая совершенно внеположна крестьянской трудовой установке. В поэтическом горизонте сталкиваются и спорят различные грани изображаемой жизни – «бесполезная» красота и «бесчувственная» польза.
ГЛУБОКИЙ ВЗОР ВПЕРИВ НА КАМЕНЬ (...) [Е. Баратынский. Скульптор].
Название стихотворения проясняет смысл слова «глубокий». Имеется в виду не материальная глубина камня: ведь камень в своей глубине такой же, как и на поверхности, – монолитно бесформенный.
Речь идет о глубине самого творческого видения, которое имеет как внешнее измерение (где дан пока лишь камень), так и внутреннее – то, что должно быть запечатлено в камне (печать здесь – форма). Но этот глубинный план видения скрыт от всех. Его обнаружение и составляет творческую задачу. В первой строке эта задача лишь идеально намечается. Дать возможность увидеть всем то, что видит художник, означает необходимость камня как средства обнаружения, то есть вывода внутреннего видения художника наружу, к «внешнему взору» зрителя. Глубина должна выйти на поверхность, раскрыться. Так что смысл «глубокого взора» скульптора как минимум двойной: во-первых, он прозревает внутреннюю форму, а во-вторых – готовится к ее овнешнению, материализации.
В ПЕСЧАНЫХ СТЕПЯХ АРАВИЙСКОЙ ЗЕМЛИ (…) [М. Лермонтов. Три пальмы]
Синтаксическое единство понятий «песок» и «земля» обнаруживает внутреннюю нестыковку, напряженность, имплицитный спор смерти и жизни. Песок – нечто распадающееся, сыпучее; земля – органическая целостность. Этот спор поддержан формой числа: степи – земля. К тому же, неохватному пространству «песчаных степей» противостоят «три пальмы» как островок жизни. Правда, такое оксюморонное построение выявляется в связи с пониманием земли как почвы. Другое же значение этого слова (в данном словосочетании – основное, хотя оба значения «работают») – страна.
Однако оксюморонность присуща и словосочетанию «песчаные степи». Это перифраз – пустыни . Аравийская земля названа на российский лад, что дает еще одно совмещение несовместного – обычное – экзотичное: в «степях» растут «пальмы». Слова «аравийской», «пальмы» называют что-то чужое и далекое, но в связи с родным и близким – «степи», «земля». Это напряжение родного и чужого поддерживает спор жизни и смерти, который готовится развернуться в стихотворении.
КАК ЧАСТО ПЕСТРОЮ ТОЛПОЮ ОКРУЖЕН (... ) [М.Ю. Лермонтов]
Два последние слова свидетельствуют о нерастворенности героя в толпе, его к ней непричастности и одиночества. Здесь легко опознается романтический код с его разорванностью бытия и противопоставлением личности (какого-то внутрен него духовного измерения) и толпы (увиденного извне случайного сборища ничем не связанных человеческих фигур, тел ). Эта беспорядочность и случайность соседства «частиц» толпы усиливается определением «пестрою», что означает бессвязность, визуальную смесь, разрозненность.
Причем бессмысленность разнообразия дополняется в стихе Лермонтова бессмысленностью однообразия, тем, что такая ситуация «часто» бывает.
Важно отметить то, что упомянутая романтическая разорванность бытия выявляется в первой строке стихотворения как особая архитектоника простирающегося мира. Этот мир выстраивается именно как окружающий героя, который находится в центре. В центре же находится и смысл, отсутствующий или, по крайней мере, непроницаемый – на периферии. Смысл приходится искать в направлении, противоположном наличному окружающему миру – внутри. Это что-то простое и целостное – антоним составной, беспорядочной пестроте вокруг.
В ГОРОХОВОЙ УЛИЦЕ, В ОДНОМ ИЗ БОЛЬШИХ ДОМОВ, НАРО-ДОСЕЛЕНИЯ КОТОРОГО СТАЛО БЫ НА ЦЕЛЫЙ УЕЗДНЫЙ ГОРОД, ЛЕЖАЛ УТРОМ В ПОСТЕЛИ, НА СВОЕЙ КВАРТИРЕ, ИЛЬЯ ИЛЬИЧ ОБЛОМОВ (...) [И. Гончаров. Обломов].
Домашний образ, вписанный в интерьер, повествователь сразу как бы лишает домашнего характера, начиная с «улицы», а дом определяя как «один из». Тем самым дом становится у-личным, безличным. Кстати, название улицы указывает на дробность, множественность. Место обитания героя здесь – именно казенная квартира, одна из многих в доме. «Дом», уравниваясь с «городом», утрачивает свой изначальный духовный смысл. Та же самая редукция понятия «дом» наблюдается в его определении «большой», которое имеет здесь отрицательный (антисентиментальный) смысловой оттенок: это не частный, не семейный, а общий (и тем самым мнимый) дом, что усиливается ироническим словом «народонаселение». Позже в романе появится образ Ноева ковчега, который несет семантику грешного погибающего мира и спасаемого праведника.
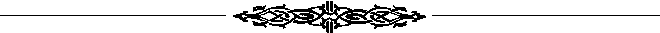
На фоне чего-то недомашнего резко выделяется, ставится в центр (что подчеркивается названием романа) домашняя поза героя, представленного сразу полным именем. В этой первой рекомендации героя обращает на себя внимание то, что читатель знакомится с ним, лежащим в постели. Эта первая поза знакомства является поэтому как бы визитной карточкой героя. Очень важно то, что утро – время подъема, но герой не собирается вставать. Такое состояние инерции покоя на фоне не останавливаемого движения времени и открывает сразу самую существенную черту Обломова и коллизию открываемого романа.
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА, СЛУЧАЙНО (…) [А. К. Толстой]
Определение бала как «шумного», во-первых, характеризует изображаемое сугубо с внешней стороны, а во-вторых – открывает точку зрения героя, который воспринимает бал именно извне – как посторонний, а не настоящий, участник. Его тело здесь, а душа далеко от праздничного, легкого – «бального» – настроения. Поэтому для него бал – это шум, то есть не музыка, не красота, а некий хаос, бессмысленность, дисгармония. И в такой плоскости понятие «случайно» как раз семантически сближается с определением «шумного». Беспорядочность и непредсказуемость того, что происходит на балу, – вот что содержит слово «случайно» (иными словами: так, что могло бы и не случиться).
Однако вся строка настраивает на грядущее событие именно благодаря этому же последнему ее слову. Причем коль скоро любое событие происходит как переход границы различных состояний, то толкователь должен предугадывать его в направлении противоположном «шумному балу». Должно случиться что-то нешумное, несуетливое и, возможно, более значимое, чем просто развлечение. На фоне («средь») развлечения происходит привлечение внимания к чему-то более глубокому, нежели внешний шум, – к нематериальному аспекту бытия.
Трехсложный ритм (амфибрахий), ассоциирующийся с вальсом (можно вспомнить здесь известный романс П.И. Чайковского на это стихотворение), обнаруживает циклический, повторяющийся характер бального движения, на фоне которого намечается нечто неповторимое, разрывающее этот круг, как сквозь маску светской галантности может открыться «случайно» индивидуальное лицо, а сквозь нечто легкое, ни к чему не обязывающее – что-то весомое, значительное, настоящее.
– ИМЕНЕМ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ПЕРВОГО, ОБЪЯВЛЯЮ РЕВИЗИЮ СЕМУ СУМАСШЕДШЕМУ ДОМУ!
ЭТИ СЛОВА БЫЛИ СКАЗАНЫ ГРОМКИМ, РЕЗКИМ, ЗВЕНЯЩИМ ГОЛОСОМ. ПИСАРЬ БОЛЬНИЦЫ, ЗАПИСЫВАЮЩИЙ БОЛЬНОГО В БОЛЬШУЮ ИСТРЕПАННУЮ КНИГУ НА ЗАЛИТОМ ЧЕРНИЛАМИ СТОЛЕ, НЕ УДЕРЖАЛСЯ ОТ УЛЫБКИ (...)
[В. Гаршин. Красный цветок].
Изображение регистрации нового пациента указывает на пограничное положение – встречу человека с казенной системой государственного учреждения. Записанное в больничную книгу имя определяет официальный статус человека как больного, однако оно не названо повествователем. Поэтому в образе героя сохранена отчужденность. Он до конца не вписывается в свою роль пациента, что подчеркивается его фразой. Сама по себе ревизия казенного заведения – дело обычное, однако здесь это слово звучит в устах больного, что совершенно переворачивает его прагматику. Речь идет не об официальной проверке, а о ревизии сумасшедшим «нормального» официального мироустройства. Это смешно с точки зрения самого мироустройства (улыбка писаря), но «через головы» героев апеллирует к читателю, который воспринимает слово героя всерьез как слово страдающего человека. Его «ревизия» – суд страдания над безразличием, механическим и формальным ходом происходящего. Имя Петра Первого, с одной стороны, говорит об анахронизме как знаке болезни. Но при этом и напоминает о создателе до сих пор существующего, реального имперского порядка.
Сама запись больного в регистрационную книгу есть жест упорядочивания, бюрократическая необходимая формальность. Но соседство образа «залитого чернилами стола» указывает на нечто противоположное – стихийное, беспорядочное. Запись в книге репрезентирует «нормальное», «членораздельное» сознание, а пролитые чернила – больное, помраченное.
МНЕ СЛЫШАЛИСЬ ОБРЫВКИ СЛОВ СВЯТЫХ (...) [А. Белый. Таинство].
В этом стихе уже пассивный залог («мне слышались...») сразу задает некую дистанцию, рас-стояние между героем и событием, причем не обязательно это физическое расстояние. Такая дистанция связана с характером самого события: таинство лишь касается «явного» мира, продолжая хранить свою сокровенность.
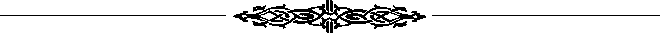
Указанный разрыв сакрального события и профанного сознания героя обнаруживается и в том, что, с одной стороны, в слове «святых» хранится благоговейная серьезность отношения к происходящему, а с другой – «обрывки» указывают на действительную отчужденность героя, его непричастность. Собственно, профанный план существования и характеризуется обрывочностью (и, тем самым, бессмысленностью). Целостность же бытия в приведенном стихе, а точнее, в мире, который начал с ним открываться, трансцендентна по отношению к герою. Эта целостность есть искомый, таящийся смысл.
НОЧЬ, УЛИЦА, ФОНАРЬ, АПТЕКА (...) [А. Блок].
Первое, что бросается в глаза при чтении этого стиха, – назывной, перечисляющий характер высказывания, которое, на первый взгляд, просто суммирует образы мира без какого-то объединяющего их принципа. Обычно такая объединяющая роль принадлежит ценностному горизонту изображаемого. Здесь же это голая и внешне нейтральная, монотонная фиксация случайно попавших в обзор вещей. Но как раз такая демонстративная индифферентность и выявляет интенцию изображения как пафос бессмысленности и распада.
Вместе с тем, можно заметить, что перечисляемые предметы все же складываются в конкретную картинку городского пейзажа, имеющую тенденцию к постепенной локализации – от «ночь» к «аптека». Правда, только благодаря фонарю становится зримой аптека (может быть, лишь вывеска, так как ничего другого мы тут не видим), и этот образ ни к чему не ведет, кажется совершенно случайно, «наугад» выхваченным из безлюдной ночной темноты. Тем не менее, мы не можем игнорировать указание этого образа на болезнь , что вполне согласуется со всем миром, увиденным под знаком бессмысленности и распада. Ведь это и есть патологическое, болезненное его (мира и человека) состояние.
ХОЛОДОК ЩЕКОЧЕТ ТЕМЯ (...) [О. Мандельштам].
Здесь истолкование, по-видимому, должно начинаться с опознавания не названной, но угадываемой лысины. Такое узнавание само по себе мало что дает. Однако помещение лысины в центр художественного изображения задает сразу печальную, хоть и сниженную, тему – течение времени.
Так как в интерпретации художественного произведения мы исходим всегда из образа человека, то отсюда вытекает, наряду с внешним, телесным аспектом изображения, обязательное наличие внутреннего, духов- ного измерения. Это предположение, или некая герменевтическая задача, требует как бы перевода всех материальных образов стиха в идеальный план. Такой перевод диктуется также тем, что и сама тема времени воспринимается здесь именно в человеческом – ценностном – горизонте. Поэтому в указании на приход старости важно почувствовать не нейтральную констатацию, а печальное признание неизбежности. В связи с этим, слово «холодок» будет означать не только буквальное физическое ощущение, а и страх, внутренний холод как ощущение приближающейся смерти, которая уже начинает заигрывать с героем («щекочет»). Может быть, имеет значение и то, что ход времени ощущается прежде всего на «верхнем» участке человеческого тела, указывающем на «рассудочную» зону, то есть на топологию осознания печальной истины преходящего существования.
О АНГЕЛ ЗАЛГАВШИЙСЯ (…) [Б. Пастернак].
Созвучие слов подчеркивает их семантическую взаимную чуждость. Ангел как духовное существо – буквально несущий Весть, – здесь в соседстве со словом «залгавшийся» содержит иное, вполне «земное» значение: прекрасная женщина. Слово «ангел» выражает восторженное отношение влюбленного, не разрушающееся даже трезвым сознанием лживости прелестного существа.
Красота не обманывает и не отвращает от истины. Лгать могут уста «ангела», но сама красота все равно несет настоящую благую весть нездешнего мира. «Залгавшийся» – запутавшийся в своей лжи, но «ангел» (= красота) указывает на то, что идет не от самого человека. Красота – дар свыше, напоминающий человеку об этой высоте и, кстати, намечающий ценностную инстанцию подлинности, истины (вести), на фоне которой как раз и оказывается заметной лживая мелочность жизни.
В СНЕГУ КИПИТ БОЛЬШАЯ ДРАКА (...)
[Н. Заболоцкий. Игра в снежки].
Легко заметить, что описание построено на сведении воедино противоположностей. Слово «игра» парадоксально объединяется с «дракой» как что-то несерьезное, легкое – с нешуточным выяснением отношений. Этот смысл поддерживается контрастом маленького («снежки») и большого. Холодный «снег» объединен с горячим «кипит».
Налицо событие контакта человека и природы, своего рода зимнее «крещение». Игра – нечто искусственное, конвенциональное, модель войны, но при этом слепленные «снаряды» («снежки») – это снег, то есть нечто естественное, натуральное.
Очень важно отметить, что объединение большого и малого состоит в невозможности определить, что более значительно. В игре обнаруживается высшая серьезность – шутливая, то есть свободная от какого-либо полезного дела, тем самым – божественная, космическая. Вот в чем смысл объединения всех противоположностей. Кстати, сам снежок – единство, побеждающее множественность, раздробленность.
Шутливая интонация возникает от иллюзии страшного, от смешения детского («большая драка») и взрослого («игра») взглядов на происходящее. Общий пафос раскрытия в малом большого, а в большом – малого освобождает от ограниченности взрослой или детской точек зрения.
ПРОЙДЕТ МНОГО ЛЕТ, И ПОЛКОВНИК АУРЕЛИАНО БУЭНДИА, СТОЯ У СТЕНЫ В ОЖИДАНИИ РАССТРЕЛА, ВСПОМНИТ ТОТ ДАЛЕКИЙ ВЕЧЕР, КОГДА ОТЕЦ ВЗЯЛ ЕГО С СОБОЙ ПОСМОТРЕТЬ НА ЛЕД (...). [Г. Г. Маркес. Сто лет одиночества. Перевод Н. Бутыриной ].
Проекция названия на первую фразу романа дает две темы: время и одиночество. И то и другое уже намечены в начале, так как «много лет» – это, по сути, то же, что «сто лет», а ожидание расстрела предполагает именно предсмертное состояние одиночества. Однако в названии фигурирует скорее однородное время, тогда как в первом предложении событие воспоминания такую однородность нарушает. Ведь воспоминаемый момент противоположен состоянию одиночества. Кроме того, он вообще выделен на фоне не оставивших следа в памяти «многих» лет. Налицо два противоположных смысловых полюса жизни: это детство и старость; восприятие самых обыкновенных вещей как чуда и восприятие смерти как чего-то обыденного (такова смерть для пожилого солдата). Образ льда здесь репрезентирует состояние удивления: вода затвердевает в лед аналогично затвердеванию потока времени, остановке перед лицом чудесного зрелища.
Старость в первом предложении романа дана как окончательная потеря способности удивляться, как закрытость по отношению к миру (стена), за которой остается лишь смерть. Правда, здесь воспоминание, открывающее героя живому прошлому, как раз связано со спасением, что выясняется позже: ведь полковника так и не расстреляют...
Я УЧИЛСЯ ТРАВЕ, РАСКРЫВАЯ ТЕТРАДЬ (...) [А. Тарковский]
Уже начало чтения сразу сигнализирует о поэтической речи не только стихотворной метрической упорядоченностью, но и явной странностью – объединением далеких, с прозаической точки зрения, сфер: познания и бы- тия, школы и жизни. «Трава», нечто естественное, становится предметом обучения, то есть в широком смысле искусства – умения, знания. Что же за школа имеется здесь в виду? В каком случае естественная трава может рассматриваться как приобретаемое искусство? – Очевидно, подразумевается существование, далеко ушедшее от исходной натуральной естественности, во всяком случае нуждающееся в таковой, испытывающее недостачу того, чем в избытке обладает трава. Это, конечно, существование человека вообще, который, научившись многому, утратил нечто изначальное. Однако, по всей видимости, возможно уточнение, конкретизация семантики в связи с образом раскрываемой тетради, которая предназначена для неких записей. Поэтому речь идет, скорее всего, именно о письме, о слове, стремящемся обрести органичность и потерянную первозданную естественность травы; речь идет о поэзии, об искусстве, которое хочет учиться у самой природы.
ЧТО КАСАЕТСЯ ЗВЕЗД, ТО ОНИ ВСЕГДА (...) [И. Бродский].
Разговорное выражение «что касается...» отсылает к обыденной беседе, в которой можно переходить от одного предмета к другому. Ср.: «коснуться до всего слегка...». Однако в данном случае предмет оказывается слишком необыденным . Слово «касается» подразумевает в данном случае, конечно, фигуральное значение, но космический, недоступно-далекий план («звезд») актуализирует буквальное значение этого невозможного прикосновения, делая ситуацию парадоксальной, внутренне напряженной. Первая половина стиха открывает план события – беседы, – имеющей конкретные место и время. Вторая половина переносит нас в неприкосновенный план вечности. Стих по сути обрезает обыденную нить высказывания. В конце строки стоит точка, что делает обстоятельство «всегда» сказуемым. Но это означает, что начатое суждение о звездах обрывается именно на этой ноте вечности, как бы не может далее продолжиться. Человеческое, слишком человеческое намерение дотянуться до вечности представляется несбыточным. «Звезды» оказываются чем-то трансцендентным для земного слова и его возможностей. Вечность несказанна.
Что дают подобные наброски толкования фрагментов? Они, сосредоточившись на самой границе прозаической и поэтической реальностей, описывают начало развертывания произведения. Смысл «приходит в движение» уже с началом чтения, а не в конце. Именно чтение и запускает «механизм» самораскрытия произведения, что и является его интерпретацией.
Список литературы Интерпретация фрагмента
- Фуксон Л.Ю. Анализ одной строки//Дискурс. 2000. № 8/9