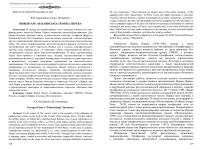Инвентарь «патаписьма» Жоржа Перека
Автор: Кириченко Владислав Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В центре настоящей работы стоит проблема влияния на стиль французского писателя Жоржа Перека творчества писателей-патафизиков. Для автора большое значение имело художественное наследие Альфреда Жарри и Рэймона Русселя. По отношению к текстам данных писателей, а также некоторых других, в произведениях Перека можно установить генетические и типологические связи. Эти точки соприкосновения писателей являются важным элементом для интерпретации как всего творчества Перека, так и в целом «патафизического письма» (или «патаписьма»), т.е. некоторых общих закономерностей работы с литературным текстом среди писателей-патафизиков. В своих произведениях Перек часто прибегал к языковой игре, создавал несуществующие и порой невозможные предметы, передавал невыразимые состояния на грани серьезного и иронического, устраивал осознанные ограничения для самостоятельного высказывания. Эти элементы во многом являются частью поэтического инвентаря патафизиков, их «патаписьма». В творчестве Перека читатель встречается с обширным поэтическим набором, имеющим литературно-патафизическое происхождение. В его текстах возникают антиномии, аномалии, сигизия, клинамен, абсолют, особый патафизический юмор, патафизические время и пространство, а также патафора. Помимо типологических сходств в общих приемах и настроении многие тексты Перека буквально отсылают к творчеству Русселя и Жарри, при этом Перек устраивает не только референции к своим учителям, но и использует и переосмысляет некоторые их повествовательные стратегии, обогащая свой творческий метод.
Жорж перек, патафизика, авангард, улино, рэймон руссель, альфред жарри, поэтика, «исчезновение»
Короткий адрес: https://sciup.org/149141357
IDR: 149141357 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-318
Текст научной статьи Инвентарь «патаписьма» Жоржа Перека
Творчество Жоржа Перека (1936-1982) связано с таким специфическим культурным явлением как «Патафизика» («Pataphysique»). Изучение данного вопроса является важным по двум причинам. Во-первых, литературно-экспериментальная группа УЛИПО, в которую входил Перек, является частью Коллежа Патафизики, соответственно, «патафизическая литература» оказала на писателя определенное влияние (и он сам стал ее неотъемлемой частью). Во-вторых, возможно обнаружение поэтологического инвентаря, а также закономерностей работы с художественным текстом писателями-патафизиками на примере творчества Перека и его сравнения с другими патафизиками. Такие общие места у разных писателей и закономерности их письма можно обозначить понятием «патаписьмо».
Целью настоящей работы является попытка анализа поэтических элементов патаписьма в художественных произведениях Жоржа Перека. Несмотрянаслабуюизученностьвопросавроссийском литературоведении, в зарубежной критике ряд исследователей обращался к вопросу влияния патафизики на творчество писателя [Хьюгилл 2017; Dubois 1983; Magne 1993; Bray 2016], однако результаты данных исследований нельзя считать исчерпывающим, в своей совокупности тексты Перека мало изучены в перспективе традиций патафизики. В одной из последних монографий по творчеству Перека, посвященной роману «Исчезновение» [Cahiers Georges Perec... 2019], совсем не затрагивается вопрос патафизики, хотя это наиболее яркий текст с точки зрения данной проблематики. В нашей работе стоит задача не только продемонстрировать наличие в творчестве Перека инвентаря приемов писателей-патафизиков (роман «Исчезновение», 1969), но и установление их функционирования в разных художественных контекстах: интертекстуальное сравнение подходов Русселя и Перека к письму, а также патафизическое влияния на поэтику автобиографического романа «W, или Воспоминание детства» (1975). Расширение оптик рассмотрения творчества Перека позволит лучше понять его собственную поэтику и некоторые закономерности развития зарубежной литературы.
Патафизика представляет собой философскую концепцию мировосприятия. Патафизика постулирует мировидение, связанное с эпатажем, авангардом, абсурдизмом (понимаемыми максимально

широко), построенных на «принципе эквивалентности». Этот принцип можно выразить фразой: «все вещи в мире в равной степени прекрасны, истинны и серьезны».
Корни Коллежа Патафизики, который был официально основан только в 1948 г., лежат в творчестве французского писателя Альфреда Жарри (1873-1907). Впервые слово «‘Патафизика» появляется в произведении Жарри «Деяния и суждения доктора Фаустролля, патафизика» (1898): «Патафизика есть наука о воображаемых решениях, которая образно наполняет контуры предметов свойствами, пока что пребывающими лишь в потенции» [Жарри 2002, 275]. (Тот самый «принцип эквивалентности» можно видеть уже в самом имени героя, где сочетаются два семантических поля, в какой-то степени противостоящие друг другу: с одной стороны, это имя Фауста («серьезного персонажа»), а с другой, наименование мифологического существа «тролля».)
Эндрю Хьюгилл, автор одной из новейших монографий по патафизике, выделял семь этапов ее развития: 1) возникновение в конце XIX в. в творчестве Альфреда Жарри; 2) неосознанное существование патафизики и функционирование близких патафизике групп вроде дадаистов и сюрреалистов (1907-1948); 3) появление Коллежа Патафизики и его активная деятельность (1948-1959); 4) интернационализация патафизической идеи - «всемирная патафизика» (1959-1964); 5) период разделения патафизики и патафизики (1964-1975); 6) этап оккультации (1975-2000); 7) период дисоккультации (с 2000-х гг). Творчество Жоржа Перека выпадает сразу на несколько периодов, причем в том числе на те, когда патафизическое письмо было наиболее активно. Среди авторов, которых можно причислить к «патафизическим деятелям», помимо Жарри и Перека, присутствуют: Андре Бретон, Жиль Делез, Борис Виан, Жан Бодрийар, Рэймон Кено, Эжен Ионеско, Артюр Краван, Рэймон Руссель, Итало Кальвино, Умберто Эко, Хорхе Луис Борхес, Рене Домаль, Антонен Арто, Флэн О’Брайен и др.
В 1968 г. французский писатель Жорж Перек стал членом группы УЛИПО (OULIPO - Ouvroir de literature potentielle), которая была основана в 1960 г. и изначально представляла собой подразделение Коллежа Патафизики. Интерес к «воображаемым решениям» заложен в самом названии УЛИПО как «цеха потенциальной литературы». Улиписты интересовались экспериментами с литературной формой и языком и часто прибегали к использованию разного рода формальных ограничений, проверяющих на прочность литературный язык и увеличивающих его художественно-выразительную «потенцию». «УЛИПО представляет собой bona-fide авангард, поскольку с самого начала радикально поставило под сомнение саму возможность поэзии или вымысла как самовыражения или изобретения», - утверждает литературовед Марджори Перлоф [Perloff 2005, 121].
Таким образом, УЛИПО как продолжение Коллежа не просто наследует художественную систему, учрежденную основателями, но и 320
вносит свой вклад в развитие возможностей литературы. В этой системе обнаруживается ряд базовых поэтических концептов, каждый из которых заслуживает отдельного пристального внимания, но для общего понимания важно увидеть саму совокупность приемов.
Одним из ведущих понятий патафизиков является антиномия (или «плюс-минус»), котороепонимаетсякакдвойническоепротивопоставление одного героя («Раздвоенный виконт» Кальвино или «Фаустролль» Жарри) или неоднозначное применение бессмысленного предмета («физиокол» Жарри, «пианоктейль» Виана). Антиномия связана с принципом аномалии, который представляет собой исключение, подтверждающее правило, когда правило тоже оказывается исключением, те. на фоне обыденного происходит нечто невозможное, но его нормальность никем не ставится под сомнение. Например, Перек приводил такой пример псевдосиллогизма об аномалии: «Если физика постулирует “у тебя есть брат, и он любит сыр”, то метафизика отвечает: “если у тебя есть брат, то он любит сыр”. А ‘патафизика же заявляет: “у тебя нет брата, и он любит сыр”» [Цит. по: Хьюгилл 2017, 38].
Следующий элемент - сигизия - проявляется как указанное ранее представление патафизиков о рациональной случайности, которая может проявляться как на уровне слов (Руссель, Жарри, Перек), так и на уровне композиции или мотивировки персонажа (Ионеско, Перек, Домаль). На языковом уровне с сигизией коррелирует понятие «клинамен», т.е. девиация от общего положения дел и движения остальных элементов. Например, «срань», ставшая «срынью» у Жарри, а также языковые игры УЛИНО (моновокализмы, липограммы и др.)
Уникальным приемом патафизиков является патафора. Это фигура речи, которая происходит от метафоры так же, как метафора происходит от нефигурального языка. В общем смысле патафора представляет собой развернутую метафору, которая создает свой собственный контекст. Можно привести пример из объяснений писателя Пабло Лопеза: представьте себе ящерицу, которая отрастила столь большой хвост, что он отвалился и вырос в новую ящерицу [Lopez],
Патафизический юмор является обязательным элементом любого патаписьма, его следует понимать как нечто серьезное в иносказательном или фигуральном смысле. Неслучайно Хьюгилл заявляет, что его книга по большому счету есть изучение патафизичекого юмора [Хьюгилл 2017, 47], хотя невозможно точно ответить, является ли патафизика серьезным размышлением с юмористическим лицом или же комедийным подтруниваниемссерьезнойминой,скорее,внейсоединяютсяобаварианта. Юмор такого рода представляет собой реализацию неоднозначной позиции по отношению к репрезентируемому. В определенном смысле нечто похожее существует в шлегелевском представление о «романтической иронии» [Шлегель 1983, 283], когда сказанное может быть одновременно рассмотрено как неискреннее и искреннее.
Патафизическая литература характеризуется различным отношением

к пространству: у одних авторов действие и повествование превалируют над описаниями (интерьерными, портретными, детальными), тогда как у других - наоборот. Однако концепция патафизического времени оказывается общим местом большинства патафизических текстов.
Такое время не является ни линейным, ни циклическим, но пространственно сжатым и аллогичным для классической рациональности, как если бы существовали путешествия во времени и различные временные парадоксы. В современных реалиях такое время рассматривается как возможное в контексте теории параллельных вселенных или возможных миров [Ryan 2006].
Первым большом достижением Перека после вступления в УЛИПО становится роман «Исчезновение» (1969), построенный на липограмме (устранение одной из букв в тексте) буквы «е». Также, особенно был отмечен текст «Жизнь способ употребления» (1978), в котором были реализованы композиционные приемы палиндрома и принцип сюжетного развития «движением шахматного коня». Несмотря на то, что Перек пришел в УЛИПО только в 1968 г, большая часть его текстов базируется на поэтике патафизиков, сюда можно отнести как ранние тексты, например «Quel petit velo a guidon chrome au fond de la cour» (1966), так и посмертно вышедшие сборники пседонаучных работ «Cantatrix sopranica L.» (1991).
«Каталогом» множества патафизических приемов можно считать роман «Исчезновение». В первую очередь, это патафизический юмор, который встречается в разных вариантах на протяжении всего текста. Будь то смерть героя от прочтения какой-то бумажки: «Ottavio Ottaviani conflagra, dans un fracas plus assourdissant» [Perec 2017, 466] («Оттавио Оттавиани лопнул с оглушительным грохотом») - (здесь и далее перевод мой - В.К.у будь то смесь языков конструкций, построенных на макаронизме: «Connais-tu l’anglais? Voulut-il savoir. - Jawohl, I said » [Perec 2017, 444-445] («Ты знаешь английский? - хотел он узнать [фр.] - Да [нем.], я сказал [англ.]»).
В романе также встречается патафора. Например, 11-я глава начинается с анализа стихотворения Рембо «Гласные». Стиль главы пародирует ученый и абстрактный язык структуралистов, в частности Р. Якобсона и К. Леви-Стросса. Данная патафора разворачивается в объемное псевдонаучное рассуждение Аугустуса, которое имеет самостоятельное основание в виде иронического подтрунивания, и в реальности фикционального дискурса оно не ведет к какому-либо пониманию стихотворения. Возникновение патафор связано с много с дойностью нарратива, в котором постоянно проклинивается алфавитный клинамен. Он используется в качестве формального ограничения. На протяжении романа сущность клинамена периодически всплывает как напоминание о том, что было с его помощью вычеркнуто. Автор часто упоминает цифру 5 (номер исчезнувшей буквы) и числа 25 и 26 (колеблющееся количество букв алфавита), чтобы показать балансирующий характер, непостоянство знака и его отсутствия (исчезновения): буквы как бы нет, но читателю об этом постоянно напоминают. Клинамен также проявляется и в буквальном нарушении орфографии некоторых слов: «Arthur Wilburg Savorgnan souffrait d’un fort migrain» [Perec 2017, 409] («Артур Уилбург Саворньян страдал серьезной мигренью»). Во французском языке «мигрень» пишется с «е» на конце слова - «migraine».
В тексте представлено патафизическое время, которое скрыто за очевидной современностью текста. Уже пролог и первая глава наглядно отсылают к парижским протестам и волнениям 1968 г. В целом это легко подтверждается и текстологическими материалами с их приложениями родословной всех героев и указанием дат смерти [Maeyama 2017]. Тем не менее реализм современности смещается рядом невозможных явлений времени: албанцы воют с турками, существует магический артефакт Заир, возраст персонажей не соответствует их прожитому опыту (Консон, Ольга), встречаются и другого рода анахронизмы.
Большая часть лингвистических особенностей времени продиктована самой липограммой [Рагауге 2012], однако другим примером такого странного «реализма» могут служить таинственные аномалий, одной из которых является устройство, с помощью которого Аугустус принимает ванну: «Afin qu’Augustus n’ait pas a souffrir d’un surplus d’irroration qui aurait pu avoir un pouvoir malfaisant sur sa costitution, on avait soumis l’admission d’aiguail a un circuit d’automatisation qui controlait la fluctuation du courant, agissant sur 1’isolibration du flot par un hydropalan a sas communicants dont 1’oscillation provoquait, par l’adroit canal d’un piston a volants s’articulant autour d’un point d’appui a vis sans fin commandant 1’induction d’un tiroir d’input-output a transistors, la construction du dispositif» [Perec 2017, 362] («Чтобы Аугустус не страдал от излишка орошения, которое могло бы оказать дурное влияние на его телосложение, процедура распределения капель была подчинена автоматической схеме, которая контролировала поток воды и распределяла его с помощью полиспаста в соседние отсеки. Колебания этих отсеков приводили в действие всю конструкцию через искусно сделанный канал клапана с вентилями, включавшийся вокруг точки опоры с винтами, постоянно управляющими индукцией транзисторного регулятора»). Такая подробность сама по себе является некоторым самоценным приемом, гипотипозой, близкой творчеству многих писателей-патафизиков: Р. Русселя, Б. Виана, Т. Дювера и пр.
Устойчивую связь с патафизической поэтикой имеет структура палиндрома, которая реализуется как антиномия [Dubois 1983]. Палиндром - это фигура, которая постоянно повторяется в творчестве Перека, будь то на уровне слов, композиции текста или элементов самого повествования. В самом «Исчезновении» палиндромно представлены последовательности исчезновений персонажей, не имеющие начала и конца. В «W, или Воспоминании детства» (1975) содержится две истории, каждая из которых включается в другую. Слабо изученный рассказ «Зимнее путешествие» (1993) репрезентирует мизанабим, интертекстуально связанный с романом Кальвино «Если однажды зимней ночью путник» (1979). Незаконченный роман «53 дня» (1989) состоит
из нескольких «подроманов», вложенных друг в друга. Палиндромная структура становится схемой, которая регулирует жизнь Бартлбута, главного героя романа «Жизнь способ употребления» (1987) [Delbos 2004]. Патафизическим оказывается то самое движение взад и вперед, возникающие при прочтении палиндрома и актуализирующее его антиномичное значение, которое не важно само по себе, но только в связи с тем, что в нем открывается по пути от начала в конец и с конца в начало.
Почти все анализируемые нами концепты встречаются в текстах Рэймона Русселя (1877-1933), которым обильно вдохновлялся Перек. Руселль является одним из наиболее референциальных писателей в творчестве Перека наряду с Флобером, Верном, Мелвиллом и Кафкой. Например, в «Locus Solus» (1914), как и в «Исчезновении» Перека, упоминается «виталиум» (аномалия), представляющий собой уникальную субстанцию, позволяющую всякому умершему повторять движения, которые сопровождали значительные моменты его жизни («autorisait tout individu mort a accomplir a jamais son instant crucial») [Perec 2017, 286].
Перек прорабатывал на свой лад языковую методологию Русселя, который описал свой поэтологический метод в сочинении «Как я писал некоторые свои книги» (1935). Руссель брал два близких по звучанию слова вроде «billard» (бильярд) и «pillard» (грабитель, мародер), затем добавлял во фразе многозначные слова, чтобы получить два практически идентичных высказывания [Roussel 1995, 11-12]: 1) «les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard» («буквы, написанные белой краской на краях старого бильярдного стола»); 2) «les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard» («письма белого человека о бандах пожилого грабителя»), В первом случае, слово «lettres» имеет значение «буквы», «blanc» - «белой краски», a «bandes» - «края бильярдного стола». Во второй фразе слово «lettres» означает «письма», «blanc» - «белого человека», «bandes» - то, что по-русски именуется словом «банда» (криминальная группировка). Этот метод Русселя является сложной работой со словом и имеет несколько уровней реализации (одна из причин непереводимости текстов автора).
Инспирация Русселем для Перека прошла плодотворно, причем настолько, что выше указанная фраза про «бильярд / грабителя» встречается в обоих вариантах в романе Перека «Исчезновение»: «L’inscription du Blanc sur un Bord du Billard» [Perec 2017, 369] («Надпись белой краской на Краю Бильярда») и «II choisit pour abri principal un bordj croulant qu’on nommait “Bordj du Pillard”» [Perec 2017, 381] («Он выбрал в качестве главного убежища ветхую крепость, которую называли “Крепость Грабителя”»). Эти фразы не так просты, и тем более не совсем переводимы, поскольку в них обыгрывается сразу несколько смыслов, которые можно обозначить бартовскими понятиями из работы «Третий смысл» [Барт 2015]: «информационный» (описание и событие вымышленного нарратива); «символический» (надпись белой краской - это знак исчезновения, преследующего героев); «открытый» (связанный с самой референцией к Русселю: слово «inscription» значит еще и «посвящение», a «pillard» -
«плагиатор»). Обнаружение подобных различий принципиально важно для произведения Перека, поскольку его идеей было создание текста, в котором язык бы выступал по-бартовски максимально «открыто» и так формировал свое содержание. Причем в более сложном виде такие структуры встречаются и у прочих улипистов, например в приеме «цилиндра» [Кислов 1997; Бонч-Осмоловкая 2009].
Несмотря на такое очевидное наследование, Перек и Руссель сильно разнятся в том, как они текстологически работают с подобными высказываниями. Если для Русселя исходные выражения представляют собой взаимоналожимые последовательности автономных и разнородных знаков, но в итоге они приводят к возникновению логичного и упорядоченного нарратива, то у Перека, наоборот, изначально упорядоченная совокупность логичных и последовательных высказываний (алфавитные списки, которые часто использовал автор при написании своих произведений) приводят к взаимоналожению автономных и гетерогенных микроповествований [Magne 1993].
Роман «W, или Воспоминание детства» хорошо демонстрирует эту писательскую стратегию порождения текста, поскольку изначально он представлял из себя три разных текста, ставших единым произведением с двумя параллельными историями [Benabou, Lapidus 1999].В центре романа оказывается антиномическое двойничество всего текста. Оно реализуется как буквально (W - удвоенная буква V, которая испытывает на себе различные метаморфозы в развитии текста), так и сюжетно - главный герой Гаспар Винклер, являющийся alter ego автора, ищет своего однофамильца. Двойственность пронизывает саму структуру текста и обнаруживается в композиционном параллелизме, закрученном в некое подобие палиндрома: изначально автобиографическим являются четные главы, а вымышленными - нечетные, со второй части книги этот распорядок меняется в обратную сторону. Такое смешение факта и вымысла у Перека порождает особую форму автовымысла (autofiction), в которой обе категории уравниваются при поверхностном чтении, исчезает подчиненность фикционального автобиографическому, устраняется разрыв между воображением и воспоминанием [Кириченко 2020].
Проходящая красной нитью сквозь все тексты автора, перековская проблематика факта и вымысла только укрепляется стилистическим обращением к «патаписьму» с его вечным колебанием и ускользанием от точности. В романе Перека о «W» встречаются фразы в духе русселевской патафизики языка, среди которых наибольшей популярностью пользуется непереводимая текстура: «Histoire avec sa grande hache» [Perec 2017, 661]. Это высказывание может быть переведено как «История с большой буквы “И”» и как «История со своим большим топором», что имеет концептуальное значение для всего творчества Перека, поскольку в таких фразах звучит особое смешение фактуального и фикционального смыслов, вносимых читателем в содержание. Первый вариант перевода кажется более вероятным, а второй лишь намекает о себе, сигнализует
о непростоте выражения, отсылает к невозможному в повседневной речи образу. За всем этим стоит важная для Перека языковая идея, когда слова двусмысленно определяют своей формой то, что за ними можно вообразить, тем самым отражая реальное положение дел. Например, в данной фразе продемонстрирована амбивалентность «Истории» как большого нарратива (о величии государства или нации), в котором обычный человек ничего не значит, и «истории с топором» как серии конфликтов и насилия, которые негативным образом сказываются на обычном человеке.
В заключение можно сказать, что настоящая работа призвана сформировать общую исследовательскую перспективу, отсутствующую во многих работах по творчеству Перека и других писателей-патафизиков, взятых в отдельности. Обращение к категории «патаписьма» задает скорее компаративную оптику изучение различных авторов, однако даже внутри творчества одного писателя можно обнаружить взаимообусловленные механизмы письма, отсылающие к общей традиции. Наша попытка кратко обрисовать возможности дальнейшего изучения Перека, других улипистов или патафизиков в общем контексте имеет целью развитие понимания системы патафизической литературы, которого недостает современному литературоведению. Конкретно в отношении Перека важно не то, что он наследует уже сложившиеся литературные приемы, но то, как они модифицируются в его творчестве. В итоге поэтика Перека не только обогащается осознанностью стилевого подхода, но и приобретает особые черты, которые имеют отношение к собственно-авторскому интересу, например к проблематике факта и вымысла. С точки зрения патаписьма «Исчезновение» может рассматриваться в перспективе апроприации и усвоения Переком патафизических приемов и принципов, тогда как в «W, или Воспоминании детства» они получают особенное развитие в неожиданной для себя проблематике факта и вымысла, имеющей серьезное значение для исторического развития форм интимного письма.
Список литературы Инвентарь «патаписьма» Жоржа Перека
- Барт Р. Третий смысл. М.: Ад Маргинем, 2015. 104 с.
- Бонч-Осмоловская Т.Б. Введение в литературу формальных ограничений. Литература формы и игры от античности до наших дней. Самара: Бахрах-М, 2009. 560 с.
- Жарри А. Убю король и другие произведения. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2002. 635 с.
- Кириченко В.В. Роман Ж. Перека «W, или Воспоминание детства» как автовымысел // Известия ЮФУ. Филологические науки. 2020. Т. 24. № 2. С. 171–181.
- Кислов В.М. УЛИПО // Митин журнал. 1997. № 54. С. 168–219.
- Хьюгилл Э. Патафизика: бесполезный путеводитель. М.: Гилея, 2017. 448 с.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. 479 с.
- Bénabou M., Lapidus R. Roussel and Rousseau, or Constraint and Confession // SubStance. 1999. № 2(89). Р. 22–36.
- Bray O. Playing with Constraint: Performing the OuLiPo and the clinamen-performer // Performance Research. A Journal of the Performing Arts. 2016. № 4(21). Р. 41–46.
- Cahiers Georges Perec 13. Travaux réunis et présentés par Maxime Decout et Yu Maeyama. Montreuil: Le Castor Astral, 2019. 254 p.
- Delbos F. Textures… // Essaim. 2004. № 2(13). P. 115–128.
- Dubois P. (Petite) Histoire des palindromes // Littérature. 1983. № 7. P. 125–139.
- Lopez P.A. Pataphore. URL: http://pataphor.com/cpat.html (дата обращения: 22.02.2022).
- Magné B. De Roussel et Perec, derechef: à propos des procédés // Raymond Roussel. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 1993. P. 245–266.
- Maeyama Y. La Disparition de Georges Perec: la contrainte et ses vertus. Littératures. Paris: Université Sorbonne Paris Cité, 2017. 447 p.
- Parayre M. Grammaire du lipogramme: La Disparition // Georges Perec artisan de la langue. Lyon: Pressеs universitaires de Lyon, 2012. P. 55–66.
- Perec G. Disparition // Oeuvres. Vol. I. Paris: Gallimard, 2017. P. 267–478.
- Perec G. W, ou le souvenir d’enfance // Oeuvres. Vol. I. Paris: Gallimard, 2017. P. 659–778.
- Perloff M. Avant-Garde Tradition and Individual Talent: The Case of Language Poetry // Revue française d’études américaines. 2005. № 1(103). Р. 117–141.
- Roussel R. Comment j’ai écrit certains de mes livres. Paris: Gallimard, 1995. 336 p.
- Ryan M.-L. From Parallel Universes to Possible Worlds: Ontological Pluralism in Physics, Narratology, and Narrative // Poetics Today. 2006. № 27(4). Р. 633–674.