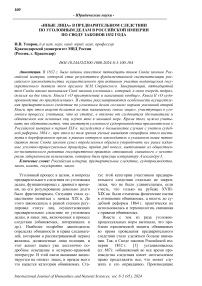«Иные лица» в предварительном следствии по уголовным делам в Российской империи по своду законов 1832 года
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 8-3 (95), 2024 года.
Бесплатный доступ
В 1832 г. было изданы известное пятнадцать томов Свода законов Российской империи, который стал результатом фундаментальной систематизации российского законодательства, осуществленного при активном участии выдающегося государственного деятеля того времени М.М. Сперанского. Завершающий, пятнадцатый том Свода закона именовался Свод законов уголовных», который, в свою очередь подразделялся на две книги: Книга I «О преступлениях и наказаниях вообще», Книга II «О судопроизводстве по преступлениям». В статье рассматриваются особенности осуществления предварительного следствие по уголовным делам согласно нормам указанной второй Книги, при этом акцент делается на так называемых «иных лицах», участвующих в уголовном процессе, учитывая, что их статус, в отличие от следователя (дознавателя) и обвиняемого как основных лиц, изучен явно в меньшей мере. Кроме того, нужно учитывать то обстоятельство, что институт уголовного судопроизводства применительно к Российской империи в период XIX в. исследуется в большинстве случаев с учетом судебной реформы 1864 г., при этом из поля зрения ученых выпадает специфика этого института в дореформенное время, в рамках которого законодатель в указанном выше пятнадцатом томе Свода законов сумел определенным образом упорядочить все ранее изданные уголовно-процессуальные процедуры, придав ряд новелл, вытекавших из общественно-политического развития государственно-правовых отношений, связанного с некоторыми либеральными изменениями, которые были присущи императору Александру I.
Российская империя, предварительное следствие, судопроизводство, закон, власть, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/170206378
IDR: 170206378 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-8-3-100-104
Текст научной статьи «Иные лица» в предварительном следствии по уголовным делам в Российской империи по своду законов 1832 года
Уголовный процесс в целом, и вопросы предварительного следствия по уголовным делам, функционировал с древнего времени, но его регулирование довольно долго было фрагментарным. Ситуация стала существенно меняться с начала XIX в. До этого законодатель в разной степени регулировал статус лиц, осуществляющих предварительное следствие по уголовным делам, и иных лиц, включенных в процесс следствия (обвиняемых, потерпевших и др.). Наиболее подробно законодатель определял обязанности и права следователей, которыми в рассматриваемый период являлись должностные лица полиции, и этот аспект нашел уже достаточно подробное освещение в историко-правовой литературе. В этой связи внимание акцентируется на «иных» лицах, и прежде всего это касается категории обвиняемых. Ста- тус этой категории участников предварительного следствия отдельно не закреплялся, что не было удивительным, если учесть, что только на рубеже XVIIIXIX вв. были отменены физические пытки в отношении обвиняемых, а вплоть до судебной реформы 1864 г. практически не использовалась и терминология, связанная с правами обвиняемых.
Вместе с тем из ряда уголовнопроцессуальных норм вытекало, что проблеме юридической защиты обвиняемых во время проведения предварительного следствия стало уделяться больше внимания. Так, в Своде законов Российской империи 1832 г. [1] устанавливалось (ст. 887): «обвиняемый во все время производства следствия имеет неотъемлемое право представлять все, что может служить к его оправданию. Производящие следствие не должны отрекаться от рассмотрения его показаний и от всех исследований, какие по оным нужным окажутся». Однако отмеченную уголовнопроцессуальную норму трудно полагать существенной ввиду ее декларативности; кроме того, она относилась к стадии формального следствия (это был главенствующий принцип при осуществлении предварительного следствия по Своду законов 1832 г.), в то время как на стадии дознания такие права закреплены не были.
Другим шагом следует назвать введение института защитников («депутатов») обвиняемых, однако возможности защитников были очень ограниченными, в частности, они могли только присутствовать при допросе обвиняемого, наблюдать за правильностью следствия и по окончании его удостоверять правильность протокола, при несогласии с которым депутат имел право выразить «свое мнение». Сами защитники при этом назначались, а не выбирались обвиняемыми [2, с. 38], в связи с чем говорить о состязательности уголовного процесса на рассматриваемой стадии говорить не приходится [3, с. 469]. Описывая институт защиты, известный российский правовед-процессуалист первой половины Х1Х в. Я.И. Баршев в этой связи писал: «адвокат может быть допущен со стороны обвиняемого:
-
1) во время всего производства дела, чтобы присутствуя при этом, указывать во все время производства следствия и суда и под конец его на недостатки их и на действия, необходимые при приеме доказательств и оценке их;
-
2) он может быть допущен только тогда, когда следователь или судья должны будут приступить к действиям, особенно вредным для обвиняемого, напр., к взятию его и заключению;
-
3) или только под конец всего следствия и суда, когда следователь совершенно окончит следствие и y него уже не будет надежды открыть что-либо новое в исследованном деле» [4, с. 124].
И далее следовал такой вывод: «Господствующее в следственном процессе направление к получению признания обвиняемого заставляет в защитнике обвиня- емого видеть опасного врага для этой цели. Это опасение, чтобы преждевременное влияние адвоката на процесс не уничтожило всех действий следователя или не попрепятствовало им и признанию подсудимого и предполагаемая притом возможность, что он злоупотребит его значением, служат причиной того, что правоyченого защитника обвиняемого обыкновенно допускают только тогда, когда следователь совершенно окончит свое дело» [4, с. 124]. В этом комментарии довольно четко отражена сложившаяся практика производства следствия, которая, как видно, на давала шансов обвиняемому из простых обывателей рассчитывать на какую-либо действенную защиту.
При этом законодатель не предусматривал какой-либо юридической ответственности следователя в случае, если обвиняемому не будет предоставлен «депутат», равно как не ставился вопрос о допустимости доказательств (прежде всего протоколов допросов), полученных с нарушением процессуальных норм - в этом можно усмотреть существенные недостатки правового регулирования предварительного следствии в рассматриваемый период [5, с. 41]. Помимо этого, заслуживает внимание следующая позиция Я.И. Баршева: «деятельность защитника обвиняемого может быть направлена или против какого-либо, особенно вредного, действия в процессе, или она может состоять в защи-щении при самом окончании следствия, которое может клониться к тому, чтобы вовсе устранить или, по крайней мере, уменьшить следующее обвиняемому наказание. B первом случае он должен доказать, что нет в наличности законных условий, от которых зависит спорное действие в процессе, напр., он может указать на пренебреженные причины отвода. Предмет и содержание последнего рода деятельности защитника определяется свойством каждого особенного случая. Иногда ему можно говорить против слишком скорого окончания процесса и доказывать притом, или недостаточность причин обвиняющих или неполное рассмотрение причин, представленных в оправдание, или приводить новые причины, которые оправдывают обвиняемого … Поэтому он имеет право: 1) требовать сообщения ему всех актов по делу и всех собранных по нему сведений; ему принадлежит также право на личный переговор с подсудимым для уяснения всех обстоятельств, служащих к его извинению; 2) вообще он имеет право на все меры, служащие для доставления обвиняемому законной защиты, напр., на протесты, предложения и т.п.» [4, с. 125-126].
Нельзя не видеть, что эти созвучные мировой практике и европейской правовой мысли воззрения Баршева применительно к Российской империи тогда явно опережали время. Следующий участник уголовного процесса из категории «иных лиц» – потерпевший не стал предметом уголовнопроцессуального регулирования: его правовой статус не был определен [6, с. 19].
Очевидно, по той причине, что теоретическая уголовно-процессуальная мысль в России также еще «не добралась» до него. Этого не скажешь о свидетелях – этой категории участников предварительного следствия уделено достаточно внимания. К тому времени, как писал В.А. Линовский, уже сложилось представление о свидетелях – это «суть лица посторонние, которые могут сделать показание суду и объяснение относительно исследуемого уголовного предмета … Доверие к свидетелям заключается в уверенности, что каждый одаренный здравыми чувствами человек может наблюдать предметы физического мира и что он выскажет правду, ежели тому не будут препятствовать какие-либо причины» [7, с. 98].
Такое положение вполне адекватно, на наш взгляд, нашло отражение в уголовнопроцессуальном законодательстве. Неспособными к свидетельству считались: малолетние, то есть лица, не достигшие 15летнего возраста; безумные, сумасшедшие и глухонемые (недопущение к свидетельству этих лиц было основано еще на Новоуказных статья); смертоубийцы, разбойники, воры, люди, портившие тайно межевые знаки, изгнанные из государства, публично наказанные и явные прелюбодеи, не бывшие y святого причастия, отчужденные и проклятые от церкви, иностранцы, которых поведение неизвестно; сделавшие в суде прежде лживую присягу и склонявшие других к ложному свидетельству и те, которые свидетельствуют по слуху от других. Эти требования носили универсальный характер. Помимо этого, ограничения имели место, если свидетель каким-то образом был связан с тем делом, по поводу которого ему предстояло давать показания. В этом контексте не допускались к свидетельству: «лица, прикосновенные к делу; находящиеся c подсудимым в родстве и ближнем свойстве, или в дружбе, или имевшие с ним до того времени вражду, хотя бы потом они и помирились, и люди, подкупленные к свидетельству; дети против родителей, но родители детьми oт свидетельства устранены быть не могут; отпущенные на волю против прежних помещиков своих и детей их; жены против мужей; раскольники в делах правоверных; крепостные люди подсудимых, их вольно-отпyщенные, а люди, находящиеся у них в услужении и получающие от них пропитание, могут быть допрашиваемы только за недостатком других свидетелей» [7, с. 98100].
Свидетели должны были давать показания под присягой; вместе с тем, как отмечается в литературе, «от этого правило были отступления, которые касались, в частности, духовных лиц православного исповедания, членов евангелического братства, духоборцев. Свидетели присягали «каждый по своей вере» и в общем случае приводились к присяге при следователе. Нормы о свидетелях-участниках уголовного процесса наиболее ярко отражали сословный характер российского общества рассматриваемого периода» [8, с. 29].
Еще одним участником предварительного следствия были прокуроры (стряпчие). В ст. 815-817 Свода законов содержалась норма об ответственности прокурорских работников при неправильном исполнении своих функций и злоупотреблений, в частности, указывалось, что за ненадлежащее исполнение своих обязанностей они получают соответствующее взыскание, Целью же губернских прокуроров и стряпчих являлось «смотреть и бдение иметь о сохранении везде всякого порядка, законами определенного, и в производстве отправления самих дел». Они должны были «сохранять целость власти и истреблять зловредные взятки». Губернский прокурор должен был давать заключения по просьбе судов и губернской администрации по вопросам, требующим применения закона, толковать законы, осуществлять контроль над местами лишения свободы и руководить деятельностью всех остальных прокуроров данной губернии, а также и стряпчих [9, с. 47-55]. Стряпчие осуществляли функции проку- рора по линии надзора за деятельностью административных органов (эти функции осуществлял стряпчий казенных дел), и функции прокурора по линии надзора за осуществлением судами правосудия по уголовным делам (эти функции осуществлял стряпчий уголовных дел) [10, с. 63]. При этом статусы «иных лиц» в Своде за- конов привязывались к статусу обвиняемых [11].
Подытоживая, следует заметить, что в целом, несмотря на то, что российский уголовный процесс на стадии предварительного расследования по уголовным делам носил, как отмечалось, выраженный сословный характер, что не позволяет оценивать его как обеспечивающий процессуальные права всех участников, тем не менее, по сравнению с предшествующим законодательством временем, Свод законов Российской империи делал шаг вперед, в том числе по регулированию «иных лиц», участвующих в уголовном процессе, о чем шла речь выше в данной статье и что отмечается в литературе [12; 13; 14] . Такой подход, очевидно, можно объяснить позицией Александра I, в годы правления которого создавалась основа Свода законов Российской империи.
Список литературы «Иные лица» в предварительном следствии по уголовным делам в Российской империи по своду законов 1832 года
- Свод законов Российской империи. Т. 15. - СПб., 1832.
- Куемжиева Я.Н. Уголовное судопроизводство по преступлениям против государства в Российской империи первой половины XIX в.: дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2005. - 214 с.
- Макалинский П.В. В каком виде можно допустить защиту на предварительном следствии // Журнал министерства юстиции. - 1863. - Т. XVIII. - Ч. 2. - С. 460-481.
- Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству. - СПб., 1841. - 324 с.
- Гаврилов С.Н. Актуальные вопросы организации адвокатуры и участия защитника в уголовном процессе в России. История и современность: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. - 197 с.
- Лянго Л.Н. Примирение с потерпевшим, его уголовно-правовое и процессуальное значение: исторический анализ // Проблемы права и социологии. Межвузовский сборник научных статей. Вып. 2. - Волгоград, 2002. - С. 17-26.
- Линовский В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России. - Одесса: Тип. Л. Нитче, 1849. - 262 с.
- Сидорова Н.В. Правовое регулирование показаний свидетеля в российском уголовном процессе: история, современное состояние: дис. ... канд. юрид. наук. - Тюмень, 2004. - 205 с.
- Шадрина Е.Г. Становление института обвинения как процессуальной деятельности уполномоченных участников уголовного судопроизводства (исторический аспект) // Вестник Института экономики, управления и права. Серия 2 «Право». Вып. 8. - Казань, 2007. -С. 47-55.
- Горожанкина Д.В. Историко-правовой анализ систематизации уголовно-процессуального законодательства Российской империи первой половины XIX века: дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2006. - 189 с.
- Филимонов Р.Н. Некоторые аспекты эволюции правового статуса обвиняемого в связи с кодификацией отечественного уголовно-процессуального законодательства в XIX веке // Юрист-Правоведъ. - № 2. - С. 54-59.
- Киселева Д.Е. Историко-правовые аспекты становления и развития института принуждения в уголовном процессуальном праве России // StudNet. - 2022. - № 7. - С. 60-73.
- Назаров С.Н. Исторические основы понятия «уголовное преследование» // Юрист-Правовед. - 2022. - № 1. - С. 47-52.
- Камилджанов С.Ш. История развития института доследственной проверки в уголовно-процессуальном законодательстве Узбекистана // Экономика и социум. - 2024. -№ 3. - С. 644-649.