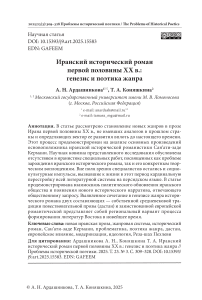Иранский исторический роман первой половины XX в.: генезис и поэтика жанра
Автор: Ардашникова А.Н., Коняшкина Т.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено становление новых жанров в прозе Ирана первой половины XX в., не имевших аналогов в прошлом страны и определяющих вектор ее развития вплоть до настоящего времени. Этот процесс продемонстрирован на анализе основных произведений основоположника иранской исторической романистики Сан‘ати-заде Кермани. Научная новизна представленного исследования обусловлена отсутствием в иранистике специальных работ, посвященных как проблеме зарождения иранского исторического романа, так и его конкретным творческим воплощениям. Вне поля зрения специалистов остались и социокультурные импульсы, вызвавшие к жизни в этот период кардинальную перестройку всей литературной системы на персидском языке. В статье продемонстрирована взаимосвязь политического обновления иранского общества и появления нового исторического нарратива, отвечающего общественному запросу. Выявленное сочетание в генезисе жанра исторического романа двух составляющих — собственной средневековой традиции повествовательной прозы (дастан) и заимствованной европейской романтической представляет собой региональный вариант процесса формирования литератур Востока в новейшее время.
Новая иранская проза, жанровая система, исторический роман, Сан‘ати-заде Кермани, проблематика, поэтика жанра, дастан, европейское влияние, модернизация, идеология, Реза-шах Пехлеви
Короткий адрес: https://sciup.org/147251699
IDR: 147251699 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15583
Текст научной статьи Иранский исторический роман первой половины XX в.: генезис и поэтика жанра
«Преданья старины далекой» как часть современности
Зарождение жанра исторического романа в Иране тесно связано со временем глубоких и болезненных потрясений иранского общества в первой четверти ХХ в. Конституционная революция 1905–1911 гг., вызвавшая необычайный общественный подъем, породила вакуум власти в стране (см.: [Bayat]), а Первая мировая война подвела Иран к опасной черте политической фрагментации.
Необходимость выхода из хаоса послевоенного времени сформировала общественный запрос на сильную личность, которая опиралась бы на принципы национальной сплоченности. Роль спасителя отечества, ориентированного на построение суверенного Ирана, принял на себя полковник Реза-хан Савадкухи (1878–1944), благодаря счастливому случаю вовлеченный в перипетии большой политики. За четыре года он сумел пройти путь от полкового командира, возглавившего государственный переворот 1921 г., до военного министра, потом премьера, а в 1925 г. был коронован как шах Ирана с тронным именем Пехлеви (см.: [The Making of Modern Iran]).
Своим стремительным возвышением он обязан поддержке группы реформаторов, объединившихся в партию «Обновление» ( Таджаддод ). Сотрудничество будущего монарха и сторонников модернизации началось в 1921 г. на базе камерной инициативной группы «Общество национального наследия» ( Анджоман-е асар-е мелли ) (см.: [Grigor]), игравшей роль идеологического сопровождения и в дальнейшем на всех этапах политической биографии Реза-шаха.
Не имевшее официального государственного статуса общество, в которое входили европейски образованные лица из ближнего круга правителя, разрабатывало и осуществляло культурно-идеологическую политику режима. Из этого круга вышли первые авторы исторических работ, легших в основу учебников по истории Ирана для школ и высших учебных заведений. Своей основной задачей «обновители» считали пробуждение коллективной памяти через новый культурный код, истоком которого виделись доисламские времена, когда Иран (вернее, Арьяна ваэджа — земля ариев, как единый наследственный дом современных иранцев вместе с Грецией и Римом) выступал в роли создателя мировой, то есть европейской цивилизации.
Новый взгляд на собственную историю, названный впоследствии «арийским и неоахеменидским национализмом» [Bausani: 46], предполагал использование всех имеющихся в наличии у власти средств пропаганды, с широким привлечением деятелей науки и искусства. В ее арсенале находился и новый архитектурный облик столицы, основанный на использовании фигуративной скульптуры, реплик барельефов дворцового комплекса Персеполя1 и зороастрийской2 символики, которые были вынесены на фасады зданий как зримое свидетельство имперской реинтерпретации исторического прошлого (см. об этом: [Ардашникова, Коняшкина]).
В 1920–1930 гг. выраженный идеологический подтекст обретают также археологические изыскания и реставрационные работы. Артефакт отныне становился не только символом и материальным воплощением жизнеспособности иранской монархии, но и новой точкой отсчета исторического времени, в отличие от принятой в течение веков исламской хронологии. Лично курировавший археологические работы Реза-шах несколько раз посещал Персеполь и встречался с Эрнстом Херц-вельдом3, активно сотрудничавшим с иранским правительством. Широкое освещение в мировой прессе проведения раскопок древней столицы звучало вдохновляюще для иранского общества.
Притягательность такого видения собственной истории не могла оставить равнодушной и значительную часть творческой интеллигенции страны. Ее усилиями созидался новый исторический герой, который должен был потеснить деятелей священной истории ислама. Исторический роман стал первым жанром художественной прозы, который привлек в этот период больш ую читательскую аудиторию.
Считается, что единичные образцы сочинений на исторические темы появлялись еще в период конституционной революции. Однако это, скорее, произведения откровенно приключенческого жанра с персонажами в условных исторических масках. В их основе чаще всего вневременная любовная интрига, лишь формально помещенная в прошлое. Ярким примером такого рода является «Шамс и Тогра» (1910) пера каджар-ского принца Мухаммада Мирзы Багера Хосрови (см. об этом: [Марр]).
Взлет исторической романистики в Иране пришелся на 1920-е гг., когда появились десятки подобных произведений, отражающих проблемы становления жанра: любовно-приключенческий сюжет механистически соединен в них с «археологическими» описаниями фона, перегруженного датами и фактами как сухой текст учебника.
Авторы первых иранских произведений на историческую тематику находились под сильным влиянием двух разнородных факторов — собственной традиции и переводной европейской литературы, что характерно и для подавляющего большинства литератур Востока. При полном преобладании в литературном комплексе на персидском языке вплоть до XIX в. поэзии, в нем имелась единственная крупная повествовательная форма в прозе — народный роман (дастан), который, существуя в течение веков изустно, впоследствии подвергся письменной фиксации и стилистической обработке.
Дастаны как произведения срединной прозы, или, по определению иранских специалистов, «простонародной литературы» (адабийат-е амийане), хорошо известны по первым литографированным изданиям XIX в. Они формировали читательский рынок и воспитывали вкус к подобным текстам. Сюжет дастана как образца массовой литературы, ориентированной на непритязательную аудиторию, был занимательным и строился на сочетании героических, любовных и авантюрных коллизий с непременным участием традиционных персонажей, восходящих к эпическим сказаниям. Первые иранские романы часто воспроизводят привычные повествовательные схемы, пришедшие из дастана, поэтому для востоковеда совершенно закономерным выглядит терминологический ряд, который использовался в Иране даже в середине XX в. при жанровой атрибуции современных произведений: «дастан» и «короткий дастан» применительно к роману и рассказу. Одновременно первые иранские прозаики XX в. выступают и как последователи европейской школы, восприняв умение выстраивать цельный сюжет и использовать присущие жанру нарративные стратегии, образно-мотивную систему раскрытия персонажей и новые художественные средства4.
Авторы исторических произведений начала XX в., делая ставку на приключенческий колорит, видели свою задачу прежде всего как просветительскую, о чем недвусмысленно заявил Хасан-хан Бади Нусрат ал-Возара в предисловии к своему роману «Повесть о древности, или Жизнеописание Куруша»: «Это напомнит нам о былом величии и могуществе Ирана, воскресит в нас нашу гордость и честь и тем умножит наш патриотизм и любовь к своему народу»5.
Этот пафос объединяет романы начала XX в. Шейха Мусы Натри «Любовь и власть, или Победы Кира Великого» и «Приключения вавилонской принцессы», «Шахрбану» Рахим-заде Сафави, «Жестокость Туркан-ханум» Хейдара Али Кемали и др.
История, ставшая романом
«Иранским В. Скоттом», или отцом исторического романа, смело может быть назван Абд ал-Хусейн Сан‘ати-заде Кер-мани (1895–1973), для которого синтез традиционного и нового стал залогом создания подлинно художественных произведений. Расцвет творчества писателя пришелся на 1920–1940-е гг., а последний роман появился годы спустя (в 1957 г.). Признанный классик жанра, Сан‘ати-заде, подобно многим деятелям культуры того времени, был поставлен перед выбором: «государева служба» или творчество, — но с успехом совмещал эти два поприща.
Нужно отдать должное смелости творческого замысла Сан‘ати-заде Кермани, который видел своей задачей развернуть перед читателем широкую панораму иранской истории в тот период, когда ее научное освоение в Иране только начиналось. На страницах его произведений оживают реально существовавшие пророки, правители и вожди народных движений разных эпох, заявленные в двух ипостасях — как герои, носители высших проявлений национального духа, и как обычные люди, которым не чужды человеческие слабости и даже пороки. Ограниченность научных изысканий компенсировалась бóльшим простором для авторской свободы в интерпретации исторических событий. Баланс достоверного факта и вымысла, звучащий убедительно и интересно, — неизбывная проблема любого исторического романиста, на стадии становления жанра однозначно решаемая в пользу последнего.
Действие первого романа Сан‘ати-заде «Расставляющие сети, или Мстители за Маздака» (1920–1925)6 разворачивается в период крушения державы Сасанидов7 под ударами воинов ислама. Немалую роль в расшатывании основ иранского государства сыграло и мощное социально-религиозное движение последователей жреца Маздака (V — начало VI в.), поставившее власть перед непростым выбором: поддержать мазда-китов, используя их в своих политических целях, или объявить им войну. Арабское завоевание и восстание маздакитов — два реальных, но разновременных исторических пласта — авторской волей спрессованы воедино, что формирует у читателя представление о глубоком кризисе власти в империи. Такая подача материала отвечает замыслу создания панорамного исторического полотна, претендующего на достоверность8, но не лишенного острой интриги в авантюрно-приключенческом духе. Собственно, роман и выстраивается на взаимодействии этих двух принципов развития сюжета.
Роман открывает прибытие в 634 г. в сасанидскую столицу Ктесифон9 посланца арабского халифа10 с требованием к шаху Йездигерду принять ислам. Осведомленный о военных успехах арабов, шах встревожен. Удрученное состояние правителя усугубляет известие о том, что его сын и наследник Хормозан вместе с первым министром Айадом участвуют в заговоре против него. Не доверявший своему окружению с начала правления, Йездигерд возвел во дворце тайные покои, где он мог не опасаться за свою жизнь, и для сохранения секрета об убежище умертвил его строителей. Один из них — Махой — чудом остался в живых и поклялся отомстить Йездигерду и уничтожить его род. Узнав, что его умирающий в тюрьме отец долгое время возглавлял маздакитское движение и завещал сыну продолжить его дело, Махой укрепляется в своей решимости свершить возмездие и становится новым главой этого тайного сообщества.
Тем временем арабское войско вторгается в Иран и после первых военных неудач одерживает ряд решительных побед, овладевает сасанидской столицей и начинает продвигаться на восток империи, следуя за бегущим вглубь страны шахом. В числе преследователей Йездигерда и жаждущий мести Ма-хой, который убивает последнего Сасанида, однако и сам погибает от руки шахского слуги.
Сын Йездигерда Хормозан11 оказался втянутым в сети маз-дакитского заговора под влиянием юной Афтаб, в которую влюблен. Однако вскоре он порывает с заговорщиками. Его возлюбленная не может примириться с мыслью, что ее избранник — предатель, и кончает жизнь самоубийством. Трагическая любовь, не приемлющая недостойный выбор, становится одной из пружин романной интриги.
В поисках смерти, которая соединит его с Афтаб, Хормозан совершает акт обреченной и безрассудной храбрости и убивает халифа, мстя ему за гибель иранской державы. Заканчивается роман казнью Хормозана.
Произведение разбито на тридцать четыре главы, название которых призвано подогреть читательский интерес: «Подземелье и люди в черном», «Десница мести», «Покушение», «Отрезанная голова» и т. д. Место действия в каждой главе меняется, формируя новую сюжетную ситуацию и повышая динамичность повествования. Вместе с ситуациями меняются и типы связей между ними (временная, логическая и ассоциативная), сюжетные линии приобретают зигзагообразный характер, нарушая, в соответствии с замыслом писателя, плавное течение сюжета.
Главным героем, действующим на протяжении всего романного времени, присутствие которого заявлено в большинстве сюжетных ситуаций, является вождь маздакитов Махой. Он обладает всем набором качеств, свойственных персонажам героического типа и позволяющих ему преодолевать все мыслимые преграды на своем пути: удачливость и смелость, верность клятве чести, готовность к самопожертвованию.
Подобный образ бесстрашного тираноборца хорошо знаком иранскому читателю по эпопее Фирдоуси «Шах-наме» (X в.), которая в течение веков формировала культурный код иранцев и сохраняет св ое значение и доныне12.
Вместе с тем в Махое легко обнаруживаются такие типовые черты романтического героя-одиночки, пришедшего из европейской литературы, как исключительность и гиперболизм стра-стей13. Это не знающий преград беспощадный мститель, судья и палач одновременно, сам формирующий кодекс возмездия, на основании которого он и действует. Субъективно-эмоциональная мотивировка побудительных причин поступков Ма-хоя является одним из легко узнаваемых признаков романтической парадигмы: как Эдмон Дантес мог не стать графом Монте-Кристо, так и Махой мог не сделать месть смыслом своей жизни, если бы не личные причины.
Писатель помещает своего героя в действие, изобилующее всевозможными опасностями: это поединки, преследования, покушения на его жизнь, то есть в романе представлен весь репертуар событийных перипетий, свойственных авантюрному сюжету. Однако на этом стремительно меняющемся фоне сам герой эмоционально и психологически статичен.
Если в первом романе Сан‘ати-заде речь идет о трагедии крушения царства Сасанидов, то во втором писатель обращается к сюжету из эпохи его становления. «Книга о Мани-худож-нике»14 (1926) — это историко-биографический роман о Мани (III в.), основоположнике синкретического религиозного учения, названного его именем и получившего в средневековье широкое распространение от Атлантического побережья до Туркестана. Считается, что сочинения пророка новой веры, который был замечательным каллиграфом и художником, имели ценность как произведения не только религиозно-философской мысли, но и искусства. Неутомимый миссионер, Мани провел большую часть жизни в путешествиях: охранные грамоты покровительствовавшего ему шаха Шапура I15 давали возможность пересекать огромную Сасанидскую империю от начала ее гран иц с Римом до Китая.
Сан‘ати-заде изображает эпоху царствования Шапура I в двух измерениях: как время территориального расширения иранского мира, представленное через войны Ирана с Римом, и время появления новой духовности, которой суждено выйти за пределы этого привычного мира. Триумфальная победа Шапура I и пленение императора Валериана стали самым ярким эпизодом длительного военного противостояния двух империй16. Однако собственно военные события остаются в романе за рамками текста, а на первый план выдвигаются взаимоотношения двух государей, обрисованные по законам приключенческого жанра в его фантасмагорическом выражении: тут и подмена Шапура двойником; и гендерное переодевание, частотное для сюжетов, разворачивающихся в условном средневековье; и сонный напиток, которому отведена своя роль в интриге.
Такой же приключенческий колорит присутствует в отношениях Мани и Шапура, которые расцвечены поисками Мани сокрытого таинственного клада, с помощью которого шах обретет непобедимость. Мани постоянно находится в движении, однако читатель практически не видит окружающего пространства его глазами. Реальным странствиям Мани придается мистический характер, так как его фигура, подобно другим великим пророкам, окутана в романе ореолом сакраль-ности. Это приближение к некой заветной истине или высокому нравственному императиву, доступное лишь избранным, согласным превозмогать выпавшие на их долю испытания. Одолевая многие тяготы, герой становится избранником, которому старцы-отшельники доверяют тайну сокровищ иерусалимского храма Иеговы, в течение многих веков сокрытых в горах Турке стана17.
Вынесенное в заглавие книги имя героя определенно указывает на Мани как на организующее начало повествовательной системы романа. Невзирая на акцентированную остросю-жетность, писатель считает необходимым познакомить читателя с направлением духовного поиска пророка, учение которого претендует на универсальность и воплощение мудрости мира:
«Моисей выступил против тиранов, чтобы отомстить за порабощенных, Иисус хотел привить людям любовь и милосердие, Заратуштра направил людей на путь стараний, труда и войны с демонами. А теперь я последую за ними и сделаю людей счастливыми… Моя новая вера не только для иранцев, она для всех людей» ( Сан‘ати-заде, 1926 : 41–42).
Воссоздавая общий рисунок проповеднической деятельности Мани, писатель называет несколько книг, которые действительно входят в канон манихейства — это ныне утраченные, но известные как принадлежащие перу пророка «Книга тайн», «Сокровищница жизни», «Книга о дэвах» и «Книга указаний»18.
Финал истории Мани исполнен внутреннего трагизма. Тщеславный шах тем не менее не в состоянии оценить дара, преподнесенного ему пророком, что расширяет сюжетный уровень романа за счет философско-символического прочтения.
Холсты и краски исторического романиста
Столь различные по сюжету романы Сан‘ати-заде Кермани построены на основе схожих повествовательных техник. Остросюжетные фабульные мотивы, базирующиеся на разнообразных коллизиях во взаимоотношениях действующих лиц, реализуются при помощи соответствующих приемов, повышающих занимательность повествования, а вслед за этим и эмоциональную заинтересованность читателя. К ним, без сомнения, могут быть отнесены широко распространенные в романтическом арсенале средств приемы вторжения в повествование различного рода случайностей или получение непредвиденных сведений, вносящих в сюжет внезапный поворот. Так, основополагающую роль в завязке романа о маз-дакитах сыграл случай, который помог шаху Йездигерду узнать о существовании в столице тайной организации: он оказывается невольным свидетелем встречи заговорщиков, проследив, куда под покровом ночи пробирается его сын Хормозан. Случай же избавляет и повстанцев от неминуемого разоблачения, давая автору возможность продолжать нить повествования, усложняя заявленную интригу.
Широко распространен в романах Сан‘ати-заде прием символических предварений. Являющийся непременным инструментом воссоздания так называемого средневекового колорита, он отсылает читателя-иранца к собственной классической литературной традиции. Начало «Мстителей за Маз-дака» целиком построено на цепочке следующих одно за другим предсказаний, определяющих судьбу державы и самого Йездигерда, которому суждено стать последним Сасанидом на иранском престоле. Заявленные в разнообразных воплощениях, предварения могут фигурировать в форме истолкованных мудрецами вещих снов, предсказаний астрологов или обнаруженных в древних рукописях пророчеств.
Особую роль предварение в форме вещего сна играет в романе о Мани. При помощи этого мотива определяется выбор жизненного предназначения героя — «покой и умиротворение» или «усилие, дарующее счастье». Следование второму пути открывает Мани тайну бытия и превращает его в наделенного особой миссией избранника19.
В романах умело создается атмосфера необычности, таинственности и тревожности происходящего посредством таких испытанных аксессуаров романтической поэтики как темная ночь, руины, подземелье, потайной ход и т. д. Действия, сопряженные со злодеянием, разворачиваются на «мрачном» фоне, усиленном гиперболизированными приметами ночного пейзажа — это непроглядная тьма, густые облака, сквозь которые пробивается скудный лунный свет или блеск молнии, ураганный ветер, а то и буря. Так, действие одного из самых напряженных эпизодов «Мстителей» разворачивается «в ужасном ущелье, где устраивали свои засады разбойники. Узкая тропа пролегла по его середине, нависающие с двух сторон горные склоны делали его еще более мрачным. В ту ночь, когда там произошли события, относящиеся к нашей истории, погода вдруг резко изменилась: стал дуть сильный ветер, разразилась буря, послышались раскаты грома, небо мгновенно потемнело. В эту пору, когда редко бы кто отважился пройти по ущелью, по каменистой тропе гнал свою лошадь всадник. В блеске молнии стало понятно, что он очень юн. Одиночество и буря страшили его, хотя при дворе он считался одним из самых храбрых. Когда ветер и гром затихали, ему на память приходили некоторые рассказы об этом ущелье, и ужас его все возрастал. Он боялся, что в следующее мгновенье тучи сгустятся, ливень усилится, и он заблудится, а значит — погибнет» (Сан‘ати-заде, 1925; т. 2: 34–35). Далее писатель еще больше пугает читателя: внезапно конь заржал и начал пятиться, и всадник видит на земле обезглавленное тело.
Увлеченность Сан‘ати-заде острым действием не мешает ему воздавать должное воспроизведению реалий описываемой эпохи, открытому европейскими писателями-романтиками. Перечень артефактов весьма ожидаем, так как включает напрямую ассоциируемые с Сасанидами символы величия империи. К ним относится одно из воплощений сасанидской державности — так называемое знамя Кайанидов20, создание которого приписывалось легендарному тираноборцу кузнецу Каве, герою национального эпоса «Шах-наме». Обильно украшенный леопардовыми шкурами и драгоценными камнями кожаный передник кузнеца почитался иранцами как святыня [Колесников: 95]. Описывает автор и прославленный Весенний ковер иранских шахов:
«Поле Весеннего ковра длиной в триста локтей и шириной в шестьдесят (то есть более 700 кв. м. — А. А., Т. К. ) было из златотканого шелка, а узор — сад с клумбами и ручьями — расшит драгоценными камнями. Камешки на дне ручьев тоже были из драгоценностей. Зимой сасанидские шахи расстилали этот ковер и наслаждались красотой весеннего пейзажа» ( Сан‘ати-заде, 1925 ; т. 2: 79–80).
По сообщениям хронистов, после захвата иранской столицы арабами чудо-ковер был разрублен на куски и поделен между военачальниками как знак военного триумфа. Погибла в огне и богатая шахская библиотека, лишь «крики и разноцветные языки пламени взвились в небо» ( Сан‘ати-заде, 1925 ; т. 2: 95) как свидетельство о невосполнимой утрате. Опустел и известный по средневековым арабским и иранским хроникам грандиозный Белый дворец, величественные фрагменты которого сохраняются и поныне. Выстроенный из белого мрамора, он неизменно вызывал всеобщее восхищение своей высотой и мощью, а также изяществом внутреннего убранства:
«В зале, предназначенном для тронных церемоний и пребывания царя царей, министров и сановников, взоры входящих устремлялись на огромный трон из сандалового дерева и слоновой кости, инкрустированный изумрудами и прочими драгоценными камнями» ( Сан‘ати-заде, 1925 ; т. 1: 4)21.
Автор находится в постоянном диалоге со своим читателем-современником, помогая ему сориентироваться в большой событийной нагрузке романа, и выступает в роли резонера, дающего оценку и историческим событиям, и персонажам своего повествования, реальным и вымышленным. В книгах повсеместно присутствует прямое общение повествователя с читателем: «как мы знаем», «я расскажу уважаемым чита телям», «читат ели с удивлением подумают, что мы забыли»,
«если мы помним» и т. д. Описывая в «Мстителях» последние сражения с арабами, автор-повествователь восклицает:
«Похоже, стали исчезать смельчаки, не осталось и следа от воинов-героев. Огонь насилия арабов обрек на небытие страну прославленного Кай-Хосрова. Поэты-панегиристы, превозносившие великих иранских государей, развязали языки для восхваления арабских военачальников, не произнося более имен своих властелинов. Да, такова судьба, и нередка среди людей подобная забывчивость!» ( Сан‘ати-заде, 1925 ; т. 2: 114).
Заключение
Начало XX в. в Иране отмечено кардинальными переменами в политической и социокультурной сферах жизни общества. Что же касается литературного творчества, то здесь новая эпоха заявила о себе появлением современных жанров как в прозе, так и в поэзии. Наиболее значительным событием, безусловно, является рождение романа в двух его разновидностях — социального и исторического. К этому времени сформировалась когорта европейски образованной молодой интеллигенции — журналистов, поэтов и писателей, традиционно именуемых в Иране «людьми пера», которые были в состоянии соответствовать политической повестке дня. К ним принадлежал и Сан‘ати-заде, в ранней молодости примкнувший к реформаторскому движению.
Начав свою литературную карьеру в одном из популярных журналов, специализировавшихся на политике, он к тридцатилетнему возрасту был автором трех нашумевших романов. Новое содержание литературы ставило перед писателями, независимо от их тематических предпочтений, и новую задачу — поиск художественной формы, адекватной проблематике, созвучной современности. Для автора исторического романа этот выбор оказался очевиден, учитывая популярность в Иране переводных произведений французского историкоприключенческого жанра. Следование европейскому образцу означало не отказ от привычной стилистики повествовательной прозы «народного романа», но лишь дозированное ее использование в широких рамках романтической поэтики.
В дальнейшем развитие жанра исторического романа пойдет по пути накопления слагаемых реалистического метода, что нашло отражение в последнем романе Сан‘ати-заде «Надир — покоритель Дели» (1957), посвященном жизнеописанию выдающегося правителя и «мирозавоевателя» XVIII в. Надир-шаха Афшара.