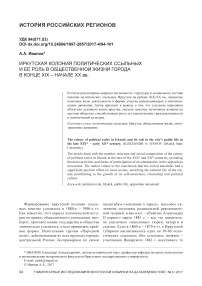Иркутская колония политических ссыльных и ее роль в общественной жизни города в конце XIX - начале ХХ вв.
Автор: Иванов Александр Александрович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 4 (42), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы численности, структуры и социального состава колонии политических ссыльных Иркутска на рубеже XIX-XX вв., выявлены основные виды деятельности и формы участия революционеров в оппозиционном движении. Автор приходит к выводу о том, что ссыльные народники обогатили духовную жизнь иркутян, оказали заметное позитивное влияние на местное общество, способствовали росту его самосознания, гражданственности и политической культуры.
Политические ссыльные, иркутск, общественная жизнь, оппозиционное движение
Короткий адрес: https://sciup.org/170175745
IDR: 170175745 | УДК: 94(571.53) | DOI: 10.24866/1997-2857/2017-4/94-101
Текст научной статьи Иркутская колония политических ссыльных и ее роль в общественной жизни города в конце XIX - начале ХХ вв.
Формирование иркутской колонии ссыльных заметно усилилось в 1880-е – 1900-е гг. Как известно, этот период политической истории не принес общественного успокоения, наоборот, противостояние государства и общества значительно усилилось, стало принимать крайние формы. Нелегальные группы «Народной воли», действовавшие во всех крупных городах центральной России, беспримерное по своим масштабам «хождение в народ», массовое увлечение молодежи радикальной революционной теорией, и как итог – убийство Александра II первого марта 1881 г. – все это значительно увеличило «население» тюрем, каторги и ссылки. Если в 1860-е – 1870-е гг. в Иркутской губернии насчитывалось едва ли 30-60 политических ссыльных (без ссыльных поляков – участников Январского 1863 г. восстания), то в начале 1880-х гг. таковых было уже более 80, на рубеже 1890-х – не менее 100, а на пороге нового ХХ в. их число выросло до 110-120 человек [3, с. 25].
Как видим, общие цифры ссыльных не выглядят внушительно. Заметное увеличение иркутской колонии стало происходить чуть позже, накануне Русско-японской войны. За пять же последних лет XIX в. в Сибирь в целом было отправлено чуть больше 400 ссыльных [7, с. 136]. С учетом их географической «разбросанности», а также различных сроков прибытия и окончания наказания, следует сделать вывод о том, что политические ссыльные этого периода были еще сравнительно редким явлением.
Наш вывод противоречит сложившимся стереотипам. Однако следует иметь в виду, что вопрос о численности политических ссыльных в Сибири (и в первую очередь это относится к пореформенному периоду) всегда был в советской историографии излишне политизирован. Идеологические соображения здесь заслоняли научную истину и реальную картину. В отечественной исторической науке безгранично господствовала ленинская периодизация революционного движения, согласно которой 1859-1861 гг. были временем первой революционной ситуации в России. А какая революция без репрессий и жертв?! В этом положении и историкам, и публицистам просто необходимо было показывать Сибирь «краем изгнания» и «гигантской тюрьмой без решеток». Отсюда – нереальные, нередко фантастические цифры и количества политических ссыльных. Например, у В.Н. Дворянова читаем: «Царское правительство пулями и штыками подавляло выступления трудящихся. Многих из них сослали в Сибирь на каторгу и в ссылку. Так, за 20 лет, с 1862 по 1881 г., количество ссыльных перевалило за 296 тыс.» [1, с. 93].
Понятно, что в самом Иркутске число ссыльных не могло превышать общегубернских показателей. Однако при этом следует учитывать, что формирование колонии «политиков» в столице региона имело свою заметную специфику. Действительно, собственно ссыльных, отбывающих здесь наказание поселением, было не много. Бóльшая часть колонии составлялась из революционеров, чьи сроки заканчивались и им было разрешено жительство по всей Сибири, или уже закончились, однако они по каким-то причинам решили прочно «осесть» в столице региона. Формально эти ссыльные были уже приписаны к какому-либо сельскому или ме- щанскому обществу и именовались «крестьяне из ссыльных», однако в действительности находились под постоянным негласным или гласным надзором полиции, оставаясь у жандармов всегда «в сильном подозрении». Именно такие революционеры и составляли подавляющее число иркутских ссыльных, постепенно оседая здесь с 1860-х гг. и значительно увеличивая реальные размеры колонии. С учетом сказанного, определим общее количество иркутских ссыльных в 1880-е гг. в 30-40 человек, и в 100 и чуть более – к 1900 г.
В иркутской ссылке преобладали высланные административно. Однако в 1860-е гг. абсолютное большинство было за сосланными по суду или вышедшими на поселение после отбытия каторги. Затем, после принятия «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г., доля административно-ссыльных резко увеличивается и к 1900 г. достигает здесь 86% от всех ссыльных. Административные не «поражались в правах» и получали, при отсутствии постоянного источника дохода, пособие от казны.
Длительность иркутской ссылки была сравнительно невелика и составляла в среднем 54 месяца или 4,5 года на одного человека. Однако следует иметь в виду, что все революционеры до ссылки подвергались тюремному заключению, которое начиналось на месте «преступления», далее следовали централы, потом этапные тюрьмы и лишь после – «пребывание в предназначенной на то местности под гласным надзором полиции». При этом срок тюремного заключения мог быть различным, но, как правило, всегда продолжительным. Так, например, следствие по делу «пропаганды в империи» (процесс 193-х) заняло три года; Н.Г. Чернышевский в ожидании приговора провел в тюрьме два года; Л.Д. Троцкий – более двух лет, В.И. Ленин – 14 месяцев. Как видим, тюремная изоляция революционера в ожидании суда или административного решения в течение одного-двух лет и более – обычная практика.
Почти половина иркутских ссыльных отбывали основное наказание в отдаленных местах Якутской области и только потом попадали в северные районы губернии. Соседство с крупнейшей каторгой империи – Нерчинской – также диктовало свои особенности: процент бывших каторжан среди «иркутян» никогда не опускался ниже 20. При этом по крайней мере пятеро
ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ революционеров отбывали иркутскую ссылку дважды. Это Е.К. Брешко-Брешковская (18921895, 1910-1915), П.Г. Зайчневский (1862-1869, 1890-1895), М.А. Натансон (1879, 1894-1902), С.И. Новаковская (1877, 1885) и Н.С. Тютчев (1878-1890, 1894-1903).
В целом собирательный портрет иркутского ссыльного таков: мужчина, дворянин или разночинец, представитель одной из интеллигентных профессий, имевший высшее или среднее образование, а еще больше – не успевший окончить университет или гимназию, арестованный «за пропаганду» или деятельность, подрывавшую «устои» государственного строя и общественного порядка, закаленный длительным тюремным заключением, каторгой и Якутской ссылкой, живший в Иркутске на казенное пособие или своим трудом, сохранивший активную гражданскую позицию и верность народнической идеологии. Именно эти качества и делали «политика» заметной фигурой в общественной жизни города, а немалый опыт нелегальной работы, полученный в организациях землевольцев или народовольцев центра страны, обеспечивал ведущую роль в оппозиционном движении Иркутска.
С конца XIX в. ссыльные имели в городе несколько общественных центров. Наибольшее количество «политиков» группировалось вокруг «Восточного обозрения». Объединенные потребностью в творчестве, возможностью выразить свое политическое сredo, стремлением быть в курсе местных событий, здесь мирно уживались народники всевозможных оттенков, а позднее – эсеры и социал-демократы. При подготовке к изданию «Забытых иркутских страниц» Е.Д. Петряев выявил имена около 700 авторов, писавших в газету и «Сибирские сборники». По крайней мере каждый четвертый-пятый из этого числа, по нашим подсчетам, был из бывших или настоящих ссыльных, проживавших в это время в Иркутске. Назовем лишь некоторых: М.С. Александров, Е.К. Бреш-ко-Брешковская, М.Р. Гоц, Ф.К. Кон, Л.Б. Красин, М.А. Кроль, В.Е. Мандельберг, Г.А. Мачтет, С.И. Мицкевич, П.Ю. Перкон, Б.О. Пилсудский, Ф.Ю. Рехневский, И.М. Ромм, С.С. Синегуб, И.А. Теодорович, Л.Д. Троцкий, Н.А. Чарушин, С.Л. Чудновский. [11, с. 341-372].
Политические ссыльные не только сотрудничали с «Восточным обозрением» и писали сюда свои статьи, вели рубрики и отправляли из глубинки корреспонденции. И.И. Попов привлекал осужденных революционеров и к непосредственному редактированию и изготовлению своей газеты. Так, например, ее секретарем с 1898 г. был В.С. Ефремов, отбывавший ранее ссылку в Якутске и Верхоленске, а затем живший в Иркутске. В 1893-1894 гг. нелегально в типографии «Восточного обозрения» наборщиками работали В.Г. Георгиевский, сосланный в Сибирь по процессу 50-ти, и член польского «Пролетариата» В.А. Гловацкий [2, стб. 774, 825].
Политические ссыльные занимали ключевые посты в редакции «Восточного обозрения», в значительной степени определяя направленность газеты. Так, редактором одно время был Д.А. Клеменц; репортерскую часть и переписку с корреспондентами организовывал В.В. Де-мьяновский; отдел сибирской хроники продолжительное время возглавлял С.Ф. Ковалик, отдел «Хроника русской жизни» на протяжении двух лет вел Е.И. Яковенко. В качестве ведущего обозревателя русской жизни в газете состоял и Ф. Кон. Он же вел раздел «Литературное обозрение», сумев привлечь к работе П.Ф. Якубовича. Отдел иностранной жизни всецело обязан своим существованием Е.И. Яковенко и П.Г. За-ичневскому. Именно благодаря политическим ссыльным «Восточное обозрение» смогло стать подлинным явлением в общественной и культурной жизни Сибири. [6, с. 8-12].
Помимо «Восточного обозрения», часть иркутских «политиков» группировалась вокруг квартиры В.А. Ошуркова, прежнего редактора этой газеты, «убежденного областника». Здесь собирались люди, занимавшиеся «культурной работой», – преподаватели иркутских училищ и гимназий, в основном женщины, а также публика, активно писавшая в газету. «Все эти учительницы, – вспоминал Попов, – были идейный народ, прекрасно вели дело, хорошо поставили воскресные школы, народные чтения, принимали активное участие в общественной жизни Иркутска». Политический ссыльный, активный народник и «якобинец» П.Г. Зайчневский с большой долей сарказма называл квартиру Ошуркова «институт небесных ласточек», а самого хозяина – Флоридором [10, с. 140].
Другими центрами сосредоточения политической ссылки в Иркутске были музей Восточно-Сибирского Русского императорского Географического общества, правление Забайкальской железной дороги, а также иркутская контора купеческой династии Громовых. Так как И.И. Попов, помимо исполнения обязанностей редактора «Восточного обозрения», был еще и консерватором музея, то у генерал-губернатора А.Д. Горемыкина однажды родилась весьма остроумная шутка, свидетельствующая и о весьма либеральных взаимоотношениях политических ссыльных и властей Иркутска до событий 1905 г.: «Не хватает еще, чтобы А.И. Громова перевела в музей свою контору! Тогда все штаб-квартиры политических соберутся в одном месте!» [9, с. 214].
Бывшие чайковцы, землевольцы, чернопере-дельцы, народовольцы и народоправцы определяли деятельность практически всех общественных организаций Иркутска. Ссыльные, порой бескомпромиссно споря друг с другом по программным вопросам своего движения, жили в городе, как вспоминал И.И. Попов, «дружно» и много сделали для «развития Иркутского общества». Вот некоторые имена наиболее активных «политиков»: Г.З. Андронников, С.И. Борейша, Н.И. Витковский, П.И. Войнаральский, А.В. Ге-деоновский, Н.Л. Геккер, В.С. Голубев, Н.Л. Го-ринович, П.Г. Зайчневский, С.И. Иваницкий, В.И. Иохельсон, П.И. Кларк, Д.А. Клеменц, С.Ф. Ковалик, И.О. Концевич, И.И. Майнов, С.И. Мартыновский, М.А. и В.И. Натансоны, А.Г. Лури, Д.Г. Любовец, С.А. и Ф.Н. Лянды, М.П. Овчинников, Э.К. Пекарский, А.В. Пих-тин, И.И. Попов, В.С. Свитыч-Иллич, П.А. Сикорский, И.М. Соколов, И.Ю. Старынке-вич, С.Г. Стахевич, Р.А. Стеблин-Каменский, Я.Ф. Стефанович, Г.М. Фриденсон, М.И. Фун-даминский, Б.П. Шостакович, П.Ф. Якубов, С.В. Ястрембский. [9, с. 208-228].
Иркутская колония ссыльных всегда стремилась принципиально реагировать в отношении власти и ее представителей. Большой резонанс, к примеру, имел приезд в город в 1888 г. генерала Русинова с личным поручением, как говорили, царя Александра III. Целью приезда по официальной версии было исследование быта и материального положения ссыльных, размещенных в Иркутске. На самом деле, встречаясь с «политиками», генерал неизменно предлагал им подать прошение на Высочайшее имя, в котором следовало раскаяться в содеянном и попросить о сокращении срока наказания. Иркутская колония закипела от возмущения: ссыльных, писавших письма с просьбой об облегчении своей участи, уничижительно именовали «подаванцами». К таким людям всегда относились с демонстративным презрением, а после 1917 г. землячества Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев стали выявлять подобных «рево- люционеров» и подвергать показательному товарищескому суду.
Предложение генерала было решительно отвергнуто и по-другому просто не могло быть: сознательно вступив в борьбу с самодержавием, большинство революционеров и в ссылке не изменило своих убеждений. Да и с формальной стороны дела было совершенно непонятно, за что просить прощения у царя, ведь административно-ссыльным (а таких в городе было уже большинство), отправленным в Сибирь без суда и следствия, обвинения не предъявлялись, их высылали в основном «в порядке чрезвычайной и усиленной охраны» по Положению 1881 г. Как пишет Попов, миссия генерала потерпела неудачу, и автор не припоминал, «чтобы кто-нибудь подал желательное для генерала прошение». Более того, многие «наговорили Русинову неприятностей, кое-кто обругал его и этим ухудшил свое положение», получив перевод в «гиблые места» [9, с. 122].
Обсуждение политических проблем не только выявляло противоположные мнения на развитие революционного движения в стране, но в большей мере помогало колонии ссыльных вырабатывать общую позицию по принципиальным вопросам местной, иркутской жизни. Одним из таких вопросов стала дискуссия в отношении русского и сибирского крестьянина. Кто из них был более «социалистом»? Поводом к дискуссии стал приезд в Иркутск в 1888 г. двух статистиков – Н.М. Астырева и Л.С. Лич-кова. Они были приглашены в качестве исследователей населения региона. Статистикам требовались «свежие силы», в качестве которых стали приглашать на службу и ссыльных. Вот тут-то и возник, по всей видимости, никогда не прекращавшийся, всегда «тлевший» спор о крестьянине.
Колония быстро разделилась на два лагеря. Один объединился вокруг Н.М. Ядринце-ва, полагавшего, что сибирский крестьянин по природе своей свободолюбив и независим, а значит, практически готовый социалист. Другие примкнули к Н.М. Астыреву, считавшему сибиряка большим эгоистом, живущим исключительно для собственного блага, нещадно эксплуатирующим у себя уголовного посель-щика и более бедного односельчанина. По всей видимости, Н.М. Астырев остался при своих взглядах и в книге «На таёжных прогалинах» все-таки отдал предпочтение «русскому мужику перед сибирским». И Н.М. Ядринцев также не изменил своего отношения к крестьяни- ну-сибиряку, стараясь замечать в нем только хорошие качества. И.И. Попов не принимал участия в дискуссии, категорично посчитав «такие споры бесцельной тратой времени». Может быть, Попов уже тогда, в конце 1880-х гг., осознал, что зажиточный и материально независимый, никогда не знавший крепостного гнета сибирский крестьянин был похож скорее на североамериканского фермера – потому и не воспринимал никакой социалистической пропаганды [10, с. 123].
В мае 1895 г. в Иркутск прибыл для прохождения административной ссылки Л.Б. Красин. Его приезд значительно расширил дискуссии ссыльных. На первое место в них выдвинулся вопрос о судьбе капитализма в России и Сибири. В принципе, он был уже решен как самой практикой – страна стремительно и необратимо двигалась по капиталистическому пути, так и теорией – революционерам в европейской части страны были хорошо известны работы Г.В. Плеханова «Социализм и политическая борьба» (1883) и «Наши разногласия» (1884), в которых автор убедительно доказал, что господство капиталистических отношений в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства России – дело недалекого будущего.
Как вспоминал Красин, в Иркутске он был первым социал-демократом «среди почти сотни ссыльных народовольцев и народников, включая таких родоначальников русского революционного движения, как Марк Натансон, Любовец и Сергей Ковалик…». При этом он отмечает: «Теоретические споры … доходили до величайшей страстности, но это не мешало всей ссылке относиться ко мне, как к Вениамину [Вениамин – старший брат Л.Б. Красина. – прим. авт. ], и личные дружеские отношения из этой эпохи у меня сохранились на всю жизнь. Ни раньше, ни после я никогда не видел собрания в одном месте таких благороднейших, чистейших революционных борцов…» [5, с. 12].
В конечном итоге вопрос о развитии капитализма в Сибири был вынесен на страницы «Восточного обозрения». Иркутские народники не хотели замечать очевидного. Многим из них, в том числе и И.И. Попову, казалось, что Сибирь обойдут стороной «капиталистические бури», что «дружная работа правительства и общества будет направлять эволюцию народного хозяйства в сторону второго пути и спасет Сибирь от стремительного потопа развития капиталистических форм». «Перепутья, на котором будто бы стоит теперь Сибирь, – парировал Красин, – в действительности не существует. … Товарное производство и капитализм торжествуют в Сибири по всей линии, и в ближайшем будущем нет никаких реальных сил, которые могли бы задержать это торжество».
Иркутская ссылка жила не только спорами и дискуссиями. Отношения с властями нередко обострялись и принимали характер открытого противостояния. Так случилось, например, в 1889 г. В марте этого года в Якутске скопилось большое количество политических ссыльных, ждавших окончания распутицы и отправки по местам причисления в отдаленные районы области. Внезапно якутский вице-губернатор П.П. Осташкин издал предписание о немедленном отъезде ссыльных из города. При этом «политикам» практически не дали возможности приготовиться к трудной дороге и закупить провизию. Возмущенные произволом властей, ссыльные подали коллективное прошение. Местный полицмейстер 22 марта собрал более тридцати ссыльных в доме якута Монастырёва и попытался арестовать наиболее инициативных организаторов прошения. Ссыльные оказали вооруженное сопротивление, в ответ на которое солдаты военной команды применили оружие, при этом шесть человек были убиты, семь ранены, а против «зачинщиков» возбуждено судебное разбирательство.
О «Якутской бойне», так эти события вошли в историю, Осташкин вынужден был телеграфно доложить генерал-губернатору графу А.П. Игнатьеву. Из его канцелярии, по всей видимости, текст доклада стал известен «политикам» Иркутска. Иркутяне хорошо знали якутскую колонию: прежде чем оказаться на юге Восточной Сибири, многие из них отбывали многолетнее наказание в «Якутке», а затем не переставали поддерживать тесные письменные связи с оставшимися там товарищами. Вот почему известие о трагедии буквально всколыхнуло весь город. После обсуждения возможных мер помощи оставшимся в живых ссыльным было принято решение как можно быстрее, подробнее и шире рассказать всему миру правду о трагедии и ее подлинных виновниках.
С этой целью иркутские ссыльные решили использовать поездку И.И. Попова в Париж на Всемирную выставку – он должен был встретиться с русскими политическими эмигрантами и передать материалы для французской и английской прессы. А чтобы на границе с Поповым не случилось каких-либо неприятностей, ссыльные решили, что Иван Иванович заучит документы наизусть и привезет их «в своей голове».
И.И. Попов благополучно добрался до Парижа, где ему удалось увидеться с самим П.Л. Лавровым. Как вспоминал Попов, он «подробно рассказал П.Л. об Якутской истории, передал на память документы, с которыми познакомился в Иркутске, а также просьбу Натансона и других поднять агитацию для того, чтобы предупредить казнь, если суд приговорит мартовцев к казни». Петр Лаврович «все записывал», обещал, что обязательно «напишет во французские газеты, а может быть и в английские, и передаст депутатам» [10, с. 153].
Статьи о расстреле ссыльных в Якутске действительно вызвали широкий общественный резонанс в России и за рубежом. В числе протестовавших были, к примеру, и политические Балаганска В.П. Кранихфельд, Э.Л. Улановская, Н.А. Ожигов, П.А. Грабовский, С.Е. Нова-ковская и Вл. Иванов, составившие «Заявление русскому правительству» и отправившие его в Министерство внутренних дел. «Цель нашего заявления, – говорилось в документе, – выразить открыто всю ту степень презрения и негодования, которую порождает в нас эта бесчеловечная расправа, эта система обращения ссылки в акт грубой мести, и представить ее на суд русского общества…» [4, с. 185-187].
Выступление балаганских ссыльных имело также большой общественный резонанс. «Заявление…» перепечатали зарубежные издания, а в России текст письма расходился гектографированным путем. Однако ни это заявление, ни протесты и поддержка мировой общественности не помогли: в августе 1889 г. состоялся суд, по результатам которого трое активных участников выступления якутских ссыльных А.Л. Га-усман, Н.Л. Зотов и Л.М. Коган-Бернштейн были повешены.
Репрессии обрушились и на балаганцев: В.П. Кранихфельд, заканчивавший свой четырехлетний срок, получил вторую ссылку и был отправлен вместе с Э.Л. Улановской на 11 лет в Якутскую область, затем в течение еще 5 лет отбывал наказание в Бодайбо; С.И. Новаковская была присуждена к каторжным работам и ссылке в Якутск, где и оставалась безвыездно вплоть до 1927 г.; там же отбывал ссылку Н.А. Ожигов; П.А. Грабовский вернулся из якутской ссылки в Балаганск лишь в 1897 г., и занимался здесь изучением быта местных жителей; Вл. Иванов умер от чахотки в ноябре 1891 г. в иркутской тюремной больнице. [4, с. 189-190].
В конце XIX – начале ХХ вв. рост революционного и рабочего движения в стране не мог не привести и к значительному увеличению числа каторжан, поселенцев и административно-ссыльных, в том числе и в Иркутской губернии. Если на 1 мая 1899 г. здесь фиксировалось чуть больше ста политических ссыльных, то уже в 1903 г. – более 270, а на 1 января 1904 г. – не менее 320. Соответственно, столь же быстро увеличивалась и иркутская городская колония (Государственный архив Иркутской области, далее – ГАИО. Ф. 601. Оп. 1. Д. 34. Л. 29-195; Д. 56. Л. 13).
Рост численности иркутской ссылки сопровождался и глубочайшими качественными изменениями. На рубеже веков народническая колония становится иной, все больше и больше размываясь представителями других партий и течений. Дворянская молодежь уступает здесь первенство разночинцам и выходцам из пролетарских рядов, на смену интеллигенту приходит рабочий. Этот процесс для старого народничества проходил весьма болезненно, что хорошо передано Л.Д. Бронштейном (Троцким). Приехав в город в 1902 г., он при первом знакомстве с четой Натансонов, был «очень обласкан». Однако их товарищеские отношения быстро закончились. «Принципиальные споры приняли сразу чрезвычайную остроту и каким-то острым клином врезались в мои отношения с Натансоном», – вспоминал позднее об этом Троцкий [13, с. 93].
«Принципиальные споры» шли вокруг новой, пролетарской ссылки. В ее появлении «старые» народники, жившие в Иркутске, видели «крах всего революционного движения». «Рабочие стали составлять все больший и больший процент политиков, и, наконец, оставили далеко за флангом революционного интеллигента, который со старого времени привык считать Петропавловскую крепость, Кресты и Колымск своей монопольной наследственной собственностью, чем-то вроде майората. Мне еще приходилось встречать в 1900-1902 годах народовольцев и народоправцев, которые почти обиженно пожимали плечами, глядя на арестантские паузки, нагруженные виленскими трубочистами или минскими заготовщиками», – так писал Л.Д. Троцкий об этом времени позднее [12, с. 33].
Политические ссыльные «новой волны», среди которых все заметнее становились лидеры рабочих организаций и социал-демократы, в меньшей степени владели творческими профес- сиями и не внесли столь существенный вклад в развитие «общественности», науки и культуры Иркутска, как их предшественники-народники. Однако эти ссыльные заметно ускорили вовлечение иркутского общества в радикальное оппозиционное движение против самодержавного государства. Они принесли учащейся молодежи и рабочим Иркутска идеи марксизма, возглавив здесь абсолютное большинство конспиративных кружков, а местное социал-демократическое и эсеровское движения приобрели в лице «политиков» профессиональных руководителей и пропагандистов.
Список литературы Иркутская колония политических ссыльных и ее роль в общественной жизни города в конце XIX - начале ХХ вв.
- Дворянов В.Н. В Сибирской дальней стороне. (Очерки истории царской каторги и ссылки. 60-е годы XVIII в. -1917 г.). Минск: Наука и техника, 1971.
- Деятели революционного движения в России: биобиблиографический словарь. Т. III. Вып. 2. М.: ВОПКиС, 1934.
- Иванов А.А. Словарь «Деятели революционного движения в России» как источник по истории политической ссылки (на примере Иркутской губернии)//Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». 2013. № 2 (5). С. 24-38.
- Кантор Р. Памяти Вик. Павл. Кранихфель-да (к истории Якутской драмы 1889 года)//Каторга и ссылка. 1922. № 4. С. 185-187.
- Красин Л.Б. (Никитич). Дела давно минувших дней. М.-Л.: Молодая гвардия, 1930.
- Круссер Р.Г. Политическая ссылка и «Восточное обозрение», 80-е -начало 90-х гг. XIX в.//Из истории общественно-политической жизни Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1981. С. 3-17.
- Мещерский А.П. Особенности, партийный состав политической ссылки в Сибири в конце XIX -начале ХХ века//Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. -февраль 1917 г.). Вып. I. Иркутск: РИО ИГУ, 1973. С. 125-144.
- Мещерский А.П., Щербаков Н.Н. В.И. Ленин и политическая ссылка в Сибири (конец XIX -1917 г.). Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1975.
- Попов И.И. Минувшее и пережитое (воспоминания за 50 лет). Ч. 2: Сибирь и эмиграция. Л.: Колос, 1924.
- Попов И.И. Минувшее и пережитое. Из воспоминаний. М.-Л.: Асаdemia, 1933.
- Попов И.И. Забытые иркутские страницы: Записки редактора. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989.
- Троцкий Н. Туда и обратно. СПб.: Шиповник, 1907.
- Троцкий Л.Д. Воспоминания о моей первой сибирской ссылке//Каторга и ссылка. 1923. № 5. С. 91-95.