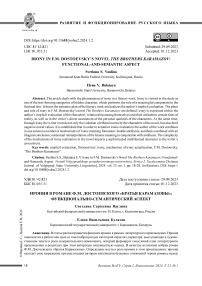Ирония в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: функционально-семантический аспект
Автор: Ваулина С.С., Булатая Е.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Экономическая теория
Статья в выпуске: 1 т.26, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен иронии в рамках литературного произведения. Ирония понимается в работе как одна из текстообразующих категорий скрытого характера, выступающая в художественном тексте в роли содержательного компонента, который формирует смысловой план литературного произведения и реализует при этом авторскую имплицитную оценку. В качестве источника избран роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Определены место и роль иронии в этом произведении: ирония находит свое выражение при реализации автором имплицитной оценки отношений героев романа между собой и их отношения к определенным фактам действительности, а также при оценке писателем личностных качеств персонажей. При этом посредством иронии Ф.М. Достоевский раскрывает не только нарушение этических норм персонажами романа, но и их отрицательные моральные ценности. Установлено, что для актуализации иронической оценки автор произведения объединяет в одном контексте ряд механизмов иронического смыслообразования: двойную антитезу; антитезу, совмещенную с алогичным выводом; контекстное переосмысление значения лексемы в совокупности с антитезой. Комплексность механизмов реализации иронии в романе придает оценке писателя сложный, многогранный характер.
Имплицитная оценка, художественный текст, ирония, механизм актуализации иронии, ф.м. достоевский, «братья карамазовы»
Короткий адрес: https://sciup.org/149145763
IDR: 149145763 | УДК: 81’42:821 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.1.2
Текст научной статьи Ирония в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: функционально-семантический аспект
DOI:
Одним из приоритетных направлений современного языкознания является изучение смысловых аспектов функционирования различных лингвистических категорий в координатах текста. В этом плане важным становится исследование категории комического в литературных произведениях, поскольку часто именно посредством комического в них реализуется система смыслов (в том числе и скрытых), созданная автором для выражения его ценностных ориентаций и социокультурных комментариев, что в свою очередь обеспечивает установление эмоциональной связи между автором и читателем.
Ирония, традиционно рассматриваемая исследователями в качестве одного из видов или одной из форм комического (см., например: [Лосев, 1995; Паси, 1980; Пивоев, 1982; 2000]), в современном понимании представляет собой лингвистическую категорию, которая выполняет текстообразующую функцию и реализуется специфическими приемами актуализации неявной авторской оценки (см., например: [Булатая, 2016; Ваулина, Булатая, 2019; Кашкин, Шилихина, 2013; Маликова, 2006; Петрова, 2009; Походня, 1989; и др.]). Соответственно, изучению иронии в художественном тексте в настоящее время придается особое значение, связанное прежде всего с тем, что он обладает достаточно широким потенциалом для интерпретации иронии, характеризуется смысловой неоднозначностью, реализацией авторской позиции и так называемой коммуникацией между текстом и его адресатом. Как справедливо указывает А.В. Кузнецова, «художественный текст ком- муникативен по своей природе, он с необходимостью предполагает акт прочтения и истолкования. <...> Диалогичность восприятия текста реципиентом не изменяет инвариант смысла, но предполагает вариативность смысловых оттенков рецепции» [Кузнецова, 2019, с. 120–121].
В широком понимании ирония – это сложная эстетическая категория, феномен культуры (см. об этом подробно: [Паси, 1980; Пиво-ев, 1982]), в котором «эстетический аспект является доминирующим началом, подчиняющим себе все остальные стороны единой цели – оптимизации общественных отношений в свете перспектив социального идеала» [Пивоев, 1982, с. 60]. При узком толковании иронии, принятом в лингвистике, а именно в текстовой «оболочке», ирония – это имплицитная форма оценочного изображения автором реальной действительности. В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой термин «ирония» имеет следующее определение: «троп, состоящий в употреблении в смысле обратном буквальному смыслу с целью тонкой или скрытой насмешки; насмешка, нарочито облеченная в форму положительной характеристики или восхваления» [Ахманова, 1969, с. 185]. При этом по сравнению с другими видами комического (например, юмором и сатирой) ирония выступает весьма «деликатной» и «тактичной» оценочной категорией, она не нарушает общую атмосферу повествования, тем самым создавая с помощью контекста и определенных приемов основу для реализации завуалированной авторской оценки по отношению к явлениям действительности, персонажам, событиям, отображенным в литературном произведении. «Субъект, – от- мечает В.М. Пивоев, – иронически осмысливая избранный объект, преобразует ироническое эмоционально-ценностное отношение в языковую (вербальную) форму, а также кодирует второй план иронии с помощью специфических средств выражения, “знаков иронии”, указывающих на ее контекст, который, в свою очередь, выводит к исходному идеалу и позволяет правильно понять ценностную ориентацию иронизирующего субъекта» [Пивоев, 1982, с. 57].
В представленном исследовании авторы статьи придерживаются узкой лингвистической трактовки иронии в качестве содержательной категории текста, а именно имплицитной формы выражения авторской оценки в художественном произведении, и ставят целью определение роли иронии в конкретном литературном произведении и установление механизмов иронического смыслообразования, применяемых в нем для реализации скрытой авторской оценки.
Материал и методы
В качестве материала для анализа выбран роман «Братья Карамазовы» – одно из наиболее известных произведений Ф.М. Достоевского, признанное учеными и критиками вершиной художественного творчества писателя.
Исследованию феномена комического в творчестве Достоевского в целом посвящено достаточно много работ (см., например: [Бахтин, 1986; Кашина, 1989; Кунильский, 1994; Логинова, 1999а; Скуридина, 2007; Тынянов, 1921; и др.]). При этом акцент в них делается на подробном анализе общей комической составляющей произведений писателя в литературоведческом аспекте. Так, А.Е. Кунильским рассмотрены смеховые элементы в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», причем исследователь подчеркивает тот факт, что в данном произведении «автор использует, кажется, весь спектр возможных смеховых проявлений – простой и смешанной природы, сильных и в разной степени редуцированных» [Кунильский, 1994, с. 192].
Заметим, однако, что в исследованиях, посвященных анализу форм проявления комического в творчестве Ф.М. Достоевского, сравнительно мало внимания уделяется иронии, между тем как, по справедливому замечанию В.В. Розанова, «...вчитываясь в весь ряд его сочинений, мы видим, как постоянно он обставляет в начале и конце легкою иро-ниею и свои любимые идеи» [Розанов, 1996, с. 45]. Н.И. Логинова, фрагментарно исследуя иронию в произведениях Ф.М. Достоевского наряду с другими формами комического (юмором и сатирой), указывает на отсутствие четкого объекта у иронии писателя, но при этом делает акцент на широком использовании иронии как приема по отношению ко многим героям и во многих ситуациях, подчеркивая, что «к сфере иронии в романах Достоевского относится все то, что связано с образами рассказчиков, их самооценкой и оценкой их автором» [Логинова, 1999б, с. 14]. Особое место иронии в произведениях писателя отмечает В.Н. Захаров, считая, что она является «формой неоднозначной оценки действительности и этических отношений, своеобразной формой переживания социальных, психологических и метафизических противоречий, несоответствия идеала действительности, неидеально-сти человека» [Захаров, 1997].
Для выявления роли иронии как имплицитной формы выражения писательской оценки в романе «Братья Карамазовы», определения механизмов актуализации иронии в совокупности применялись методы описательного, контекстуального и функционально-семантического анализа, а также метод лингвистической интерпретации.
Результаты и обсуждение
В романе «Братья Карамазовы» ставятся нравственно-философские вопросы о грехе и сострадании, загадках человеческой души, рассматриваемые автором сквозь призму истории провинциальной семьи Карамазовых.
Прежде всего обратимся к анализу отношений между героями романа, которые зачастую изображены писателем завуалированно, в форме иронии. Заметим, что при описании этических отношений в романе можно проследить процесс приобщения того или иного персонажа к конкретным моральным ценностям, которые в конечном счете формируют его нравственное сознание, определяют его поступки и становятся для него самого ориентиром при оценке определенных явлений и фактов действительности.
Так, Достоевский тонко иронизирует над этическими отношениями между отцом, главным героем романа Федором Павловичем Карамазовым, и его сыновьями. При этом для актуализации иронической оценки автор мастерски использует различные способы иронического смыслопорождения.
Например, этические отношения между Федором Карамазовым и его старшим сыном Дмитрием не соответствуют общепринятым моральным нормам и опровергают ценность таких моральных качеств, как чувство долга, совесть, любовь к детям.
-
(1) ...Бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишком расхворалась, сестры же повышли замуж, так что почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе . Впрочем, если бы папаша о нем и вспомнил (не мог же он в самом деле не знать о его существовании), то и сам сослал бы его опять в избу, так как ребенок все же мешал бы ему в его дебоширстве (Достоевский, с. 12–13).
В приведенном отрывке писатель четко выстраивает линию иронической оценки семейных отношений Карамазовых посредством противопоставления и алогичного вывода, то есть нарушения причинно-следственных связей в контексте. Так, причина того, что сыну Карамазова Мите пришлось жить у слуги, а не у отца, кроется в легкомыслии и безнравственности отца, который просто-напросто забыл о сыне и о собственном долге. Далее в приведенном контексте ирония реализуется с помощью антитезы: если бы папаша о нем и вспомнил – сам сослал бы его опять в избу , которая подчеркивает безнравственное поведение главного героя по отношению к своему сыну.
Ярким примером реализации иронической оценки писателем этических отношений в семье Карамазовых является, на наш взгляд, также отрывок, в котором содержится оценка отношений между Федором Карамазовым и его сыновьями Иваном и Дмитрием:
-
(2) – Божественный и святейший старец! – вскричал он, указывая на Ивана Федоровича . –
Это мой сын, плоть от плоти моея, любимейшая плоть моя! Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор , а вот этот сейчас вошедший сын, Дмитрий Федорович , и против которого у вас управы ищу, – это уж непочтительнейший Франц Мор, – оба из «Разбойников» Шиллера, а я, я сам в таком случае уж Regierender Graf von Moor! (Достоевский, с. 79).
Из приведенного отрывка видно, что отношение отца к сыну Ивану прямо противоположно его отношению к сыну Дмитрию, что в свою очередь создает иронический подтекст. При этом автором используется механизм интертекстуальных включений для создания противопоставления: Иван отождествляется с Карлом Мором, положительным персонажем из трагедии Ф. Шиллера «Разбойники», – «он чуток к чужому страданию, деятелен и энергичен» (ЛГ), а Дмитрий, напротив, с Францем Мором, отрицательным героем названного произведения, – «обиженный на судьбу за то, что родился вторым и, следовательно, не получит наследства... завидует своему старшему брату Карлу» (ЛГ). Кроме того, созданию яркой антитезы способствуют однокоренные слова-антонимы почтительнейший и непочтительнейший , пафосно употребленные писателем в грамматической форме превосходной степени сравнения прилагательных, с помощью которых Федор Карамазов характеризует своих сыновей.
С иронией описывает Достоевский и этические отношения самих сыновей с отцом. Например, иронично обыгрывается автором непочтительное, даже потребительское, отношение старшего сына Ивана к отцу:
-
(3) – Слушай: юридически он мне ничего не должен. Все я у него выбрал, все, я это знаю. Но ведь нравственно-то должен он мне, так иль не так? Ведь он с материных двадцати восьми тысяч пошел и сто тысяч нажил . Пусть он мне даст только три тысячи из двадцати восьми , только три, и душу мою из ада извлечет, и зачтется это ему за многие грехи! <...> В последний раз случай ему даю быть отцом (Достоевский, с. 133).
Ироническая оценка отношения сына к отцу реализуется как с помощью антитезы: юридически ( юридический – «связанный с правовыми нормами, правовым законодательством и практическим применением их»
(МАС, т. 4, с. 775)) – нравственно ( нравственный – «соблюдающий нормы общественного поведения, требования морали» (МАС, т. 2, с. 513)), так и благодаря последующему контекстному переосмыслению значения наречия нравственно. Как видно из контекста, юридический долг отца перед сыном противопоставляется его нравственному долгу, который, однако, сын Иван связывает не с дружелюбными семейными отношениями, а с денежными накоплениями. Нравственный долг в приведенном контексте практически приравнивается к материальным ценностям, и, как следствие, ироническому переосмыслению подвергается и социальная роль «быть отцом».
Заметим, что ирония Достоевского прослеживается при оценке автором этических отношений не только членов семьи Карамазовых, но и других персонажей романа, не связанных с ней кровными узами.
Одним из показательных примеров иронической оценки является характер отношений между Софьей Ивановной (позже – второй женой Федора Карамазова) и ее благодетельницей – генеральшей Вороховой, а также Софьей Ивановной и Федором Павловичем, что наглядно демонстрируется в следующем отрывке:
-
(4) Софья Ивановна была из «сироток», безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, взросшая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы и мучительницы , знатной генеральши-старухи, вдовы генерала Ворохова. <...> Федор Павлович предложил свою руку, о нем справились и его прогнали, и вот тут-то он опять, как и в первом браке, предложил сиротке увоз. Очень, очень может быть, что и она даже не пошла бы за него ни за что, если б узнала о нем своевременно побольше подробностей....Да и что могла понимать шестнадцатилетняя девочка, кроме того, что лучше в реку, чем оставаться у благодетельницы. Так и променяла бедняжка благодетельницу на благодетеля (Достоевский, с. 15–16).
Ирония здесь актуализируется при помощи контекстного переосмысления значения устаревших лексем благодетельница и благодетель («тот, кто оказывает кому-л. покровительство, помощь, услугу» (МАС, т. 1, с. 93)). В приведенном фрагменте показано, что благодетельница представляет собой не добросердечную воспитательницу для сироты Софьи Ивановны, а мучительницу. Пониманию читателем этого факта способствует противопоставление слов благодетельница, воспитательница слову мучительница и дальнейшему описанию: лучше в реку, чем оставаться у благодетельницы. При характеристике писателем Федора Павловича как последующего благодетеля Софьи Ивановны возникает недосказанность и двусмысленность, чему способствует игра слов в предложении Так и променяла бедняжка благодетельницу на благодетеля.
Отношение Федора Павловича к материальным ценностям репрезентировано через поведение персонажа, которое представлено как аморальное и, безусловно, противоречит нормам поведения в обществе – честному ведению дел:
-
(5) Федор Павлович хотя и кутил , и пил , и дебоширил , но никогда не переставал заниматься помещением своего капитала и устраивал делишки свои всегда удачно , хотя, конечно, почти всегда подловато (Достоевский, с. 15).
В рамках рассмотрения механизма реализации иронии примечательно, что смысловое противоречие в приведенном контексте возникает в результате двойной антитезы: негативные действия ( кутил , пил , дебоширил ) противопоставлены положительным действиям ( никогда не переставал заниматься помещением своего капитала , устраивал делишки свои всегда удачно ) . Кроме того, наречное словосочетание всегда удачно сопоставляется в одном и том же предложении с соответствующим словосочетанием почти всегда подловато. Указанные взаимосвязанные между собой противоречия наталкивают читателя на распознание и интерпретацию скрытого ироничного подтекста.
Стоит заметить, что иронические оценочные смыслы возникают при описании как главных персонажей романа, так и второстепенных, которые, однако, играют важную роль для реализации общей идеи произведения. Наряду с иронией при оценке персонажей важное место занимает и самоирония, представляющая собой, по утверждению И. Паси, «высшее проявление духовной независимости, при которой субъект поднимается не только над объектами, но и над самим собой, рассматривая себя как объект собственной иронической субъективности» [Паси, 1980, с. 83].
Рассмотрим подробнее особенности реализации скрытой оценки писателем персонажей романа с помощью самоиронии. Так, центральной при создании иронической характеристики персонажей в произведении является оценка писателем главного персонажа романа – Федора Карамазова. Причем «образ Федора Карамазова убедительно свидетельствует об умении самого Достоевского раскрыть “трагическую подкладку” сатирического персонажа» [Щенников, 2007, с. 693]. Например, оценка характера Федора Карамазова реализуется в романе в ряде случаев посредством прямой самооценки героя в форме его монологов:
-
(6) Вы видите пред собою шута, шута воистину! Так и рекомендуюсь. Старая привычка, увы! А что некстати иногда вру , так это даже с намерением, с намерением рассмешить и приятным быть . Надобно же быть приятным, не правда ли? Приезжаю лет семь назад в один городишко , были там делишки , а я кой с какими купчишками завязал было компаньишку (Достоевский, с. 45).
В приведенном отрывке глагол врать , в смысловом аспекте раскрывающий способность персонажа придумывать различные несуществующие истории, приобретает положительную коннотацию, поскольку употребляется автором в одном контексте со словами с намерением рассмешить и приятным быть . При этом ироническая характеристика персонажем самого себя расширяется с помощью игры слов – нагромождения лексем с суффиксом уменьшительно-пренебрежительного значения - ишк- : городишко , делишки , купчишки , компаньишка . Персонаж в целом осознает, что является выдумщиком и вруном, но при этом оправдывает свои действия благой целью – угодить людям.
Самоирония Федора Карамазова прослеживается в характеристике себя как мужчины:
-
(7) – Теперь я пока все-таки мужчина, пятьдесят пять всего, но я хочу и еще лет двадцать на линии мужчины состоять , так ведь состареюсь – поган стану, не пойдут они ко мне тогда доброю волей, ну вот тут-то денежки мне и понадобятся . Так
вот я теперь и подкапливаю все побольше да побольше для одного себя-с, милый сын мой Алексей Федорович, было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить , было бы вам это известно. В скверне-то слаще: все ее ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто . Вот за простодушие-то это мое на меня все сквернавцы и накинулись (Достоевский, с. 187).
В приведенном примере самоирония реализуется посредством комплекса приемов: нарушения причинно-следственных связей ( на линии мужчины состоять – денежки мне и понадобятся ; в скверне моей до конца хочу прожить ; за простодушие – сквернавцы и накинулись ) и прямого противопоставления ( все ее ругают – а все в ней живут ). Как видно из контекста, основная цель главного героя состоит в выдвижении на первый план себя как мужчины, ведущего распутную жизнь. В этом Карамазов сам признается, но снова оправдывает себя путем смещения внимания читателя на открытость ведения им такого образа жизни и свою бесхитростность.
Самоирония присутствует и в оценке средним сыном Карамазова, Дмитрием, своего неблагочестивого поведения по отношению к женщинам:
-
(8) – Это жениху-то ходить? Да разве это возможно, да еще при такой невесте и на глазах у людей? Ведь честь-то у меня есть небось . Только что я стал ходить к Грушеньке, так тотчас же и перестал быть женихом и честным человеком, ведь я это понимаю же (Достоевский, с. 130).
Самоирония персонажа в приведенном примере актуализируется посредством риторических вопросов. Примечательно, что персонаж говорит о себе в третьем лице: Это жениху-то ходить?, но далее переходит к первому лицу: Ведь честь-то у меня есть небось. Обращение к себе в третьем лице демонстрирует попытку персонажа романа оправдать себя перед самим собой, однако последующее использование местоимения я иллюстрирует осознание им опрометчивости своих поступков. К тому же, говоря о чести, персонаж в своей речи употребляет частицу небось со значением неуверенности «ведь, наверное, очевидно» (МАС, т. 2, с. 423), что свидетельствует о понимании персонажем аморальности своего отношения к женщинам: и к невесте Екатерине Ивановне, и к возлюбленной Грушеньке.
Ироничную самооценку дает себе четырнадцатилетний персонаж романа Коля Красоткин – вождь ребят-школьников:
-
(9) « <...> Лицо у меня, впрочем, умное ; я не хорош , я знаю, что я мерзок лицом , но лицо умное ». <...> ...« Совсем курносый, совсем курносый !» – бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало, и всегда отходил от зеркала с негодованием. « Да вряд ли и лицо умное ?» – подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом (Достоевский, с. 569).
Благодаря иронии читатель может проследить в характере смелого и сильного духом мальчишки («Был он смелый мальчишка, “ужасно сильный”, как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе, был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого» (Федор Достоевский...)) черты неуверенности, которые раскрываются через описание юношей своей внешности и умственного развития. Так, ирония возникает на основании неоднократной антитезы ( лицо умное , но не хорош ; мерзок лицом , но лицо умное ) и риторического вопроса, подчеркивающего неуверенность Коли в сказанном: Да вряд ли и лицо умное?
Актуализация имплицитной авторской оценки по отношению к персонажам романа «Братья Карамазовы» осуществляется посредством иронии писателя, реализующейся в произведении как непосредственно (с помощью авторского повествования), так и опосредованно (через слова одних персонажей по отношению к другим). Например, ироническая оценка автора одного из персонажей романа – лакея Смердякова – реализуется посредством использования в повествовании прецедентного имени Валаамова ослица , имеющего иронический подтекст и употребляющегося в случае, когда речь идет «о покорном человеке, неожиданно выразившем свой протест против чего-л. (из библейского сказания об ослице волхва Валаама, неожиданно запротестовавшей человеческим языком против побоев)» (МАС, т. 1, с. 134):
-
(10) Валаамовою ослицей оказался лакей Смердяков. Человек еще молодой, всего лет двадцати четырех, он был страшно нелюдим и молча-
- лив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был, напротив, надменен и как будто всех презирал (Достоевский, с. 136);
-
(11) Но валаамова ослица вдруг заговорила (Достоевский, с. 139).
Устойчивое словосочетание Валаамова ослица получает в контексте приведенного отрывка дополнительные оттенки значения, поскольку Смердяков, являющийся слугой и поваром помещика Федора Карамазова, представлен в романе не только молчаливым и покорным своему хозяину лакеем, но и надменным, всех презирающим человеком, что, как известно, не было свойственно Валаамовой ослице. Указанное противоречие, а также антитеза, возникающая между устойчивыми выражениями Валаамова ослица и Но валаамова ослица вдруг заговорила , обусловливают возникновение иронии.
Ироническая характеристика Смердякова осуществляется Достоевским и с использованием интертекстуального включения. Так, писатель называет Смердякова созерцателем, отсылая читателя к подробному содержанию одноименной картины И. Крамского «Созерцатель»:
-
(12) У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель» : изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-оди-нешенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко, стоит и как бы задумался , но он не думает , а что-то «созерцает» . Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая . <...> Впечатления же эти ему дороги, и он наверно их копит, неприметно и даже не сознавая , – для чего и зачем, конечно, тоже не знает ... <...> Вот одним из таких созерцателей был наверно и Смердяков, и наверно тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная зачем (Достоевский, c. 139).
Постоянно молчащий и презирающий людей Смердяков предстает в данном отрывке как не умеющий думать наблюдатель. Для усиления иронии писатель использует ряд глаголов и деепричастий с отрицанием: не думает, не знает, не понимая, не сознавая, не зная, что позволяет раскрыть контекстуальное значение слова созерцатель применительно к образу Смердякова. При этом отметим, что в «Словаре русского языка» глагол созерцать трактуется в двух значениях: «1. Рассматривать кого-, что-л., наблюдать за кем-л., чем-л.; 2. Мысленно представлять, проникая умом, мыслью во что-л.» (МАС, т. 4, с. 184). В пассивном созерцании Смердякова, напротив, не было ни цели, ни мыслей. Данный контраст и создает двусмысленность, тем не менее контекстная составляющая позволяет читателю правильно понять, кем же на самом деле являлся Смердяков. Укажем также, что для Достоевского данный персонаж был собирательным образом «представителей той части русского народа, который пребывает в умственной темноте» [Накамура, 2011, с. 340].
Противоречивую оценку дает Достоевский среднему сыну Карамазова Ивану, черты которого раскрываются через характеристику его второстепенным персонажем романа, семинаристом Михаилом Ракитиным, с издевкой описывающим действия Ивана с точки зрения выполнения им различных социальных ролей:
-
(13) Брат твой Иван теперь богословские статейки пока в шутку по какому-то глупейшему неизвестному расчету печатает, будучи сам атеистом ... Кроме того, от братца Мити невесту себе отбивает ... Да еще как: с согласия самого Митеньки , потому что Митенька сам ему невесту свою уступает, чтобы только отвязаться от нее да уйти поскорей к Грушеньке. И все это при всем своем благородстве и бескорыстии , заметь себе это (Достоевский, с. 89).
В контексте вышесказанного немаловажно заметить, что Иван относился к той группе персонажей романа, которые «наиболее болезненно реагируют на возможность их осмеяния» [Кунильский, 1994, с. 198].
Противоречия, актуализирующие иронию, создаются в приведенном отрывке с помощью антитез: богословские статейки печатает , но будучи сам атеистом ; от братца Мити невесту себе отбивает , но с согласия самого Митеньки. Данные противоречивые действия Ивана в итоге противопоставляются неожиданному выводу при всем своем благородстве и бескорыстии. Непонятные поступки Ивана и порождают у читателя множество вопросов относительно его характера. Как справедливо отмечает исследователь творчества Ф.М. Достоевского
К. Накамура, Иван «отличается умом, но по своему менталитету он – юноша темного характера. В нем постоянно ощущается какая-то глубоко запрятавшая себя душевная слабость» [Накамура, 2011, с. 334]. Таким образом, для реализации иронии в данном случае автор задействует несколько механизмов (антитезу и последующий алогичный вывод), посредством чего убеждает читателя в своей неодобрительной оценке по отношению к объекту иронии, то есть персонажу романа Ивану Карамазову.
Заключение
Ирония выступает в художественном тексте, с одной стороны, его неотъемлемой содержательной категорией, играет важную роль в формировании смыслового наполнения произведения, относясь к области скрытых смыслов, созданных автором для реализации определенной цели в произведении. С другой стороны, ирония выполняет в литературном произведении экспрессивно-эмоциональную функцию, поскольку как категория, основанная на несоответствии смысла, выраженного вербально, подразумеваемому, подталкивает читателя к поиску и декодированию скрытой информации, тем самым вызывая у него определенный эмоциональный отклик. В рамках рассмотрения данной категории с позиции автора художественного произведения можно заключить, что ирония актуализирует субъективную авторскую оценку, участвуя в реализации его ценностных представлений, и направлена на обличение актуальных для конкретного исторического этапа развития общества социально-нравственных проблем.
В романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» ирония как имплицитная форма авторской оценки находит свое выражение в многоаспектной характеристике персонажей. Причем ирония автора в романе в большинстве своем направлена на скрытую критику и осмеяние семейных отношений, а именно отношений между отцом и сыновьями как главной проблемы романа. В других случаях ирония возникает при оценке этических отношений между персонажами романа и отношений самих персонажей к различным проблемам и явлениям действительности.
При реализации оценки персонажей романа ирония достаточно часто направлена на самого иронизирующего персонажа и приобретает форму самоиронии, раскрываясь через сознание и самосознание героя. Следовательно, можно сделать вывод, что ирония предстает как не окончательная мера обличения отрицательных качеств персонажа, а как шанс на возможное его перерождение, поскольку «Достоевский всегда стремится открыть “человека в человеке”» [Захаров, 1997].
Механизмы реализации иронии в романе «Братья Карамазовы» используются комплексно. Для актуализации иронии Ф.М. Достоевский применяет несколько механизмов в одном контексте: двойную антитезу; антитезу и алогичный вывод; контекстное переосмысление значения лексемы и антитезу. Такая особенность способствует созданию «яркой», эффектной иронии, раскрывающей как изъяны представленных в произведении персонажей, так и несоответствие отношений между персонажами общепринятым этическим нормам.
Список литературы Ирония в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: функционально-семантический аспект
- Ахманова О. С., 1969. Ирония // Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов.энцикл. С. 185
- Бахтин М. М., 1986. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Худож. лит. 486 с.
- Булатая Е. В., 2016. Ирония как способ выражения неявной оценки в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» // Мир русского слова. СПб.: О-во преп. рус. яз. и лит. № 4. С. 66–71.
- Ваулина С. С., Булатая Е. В., 2019. Механизмы иронического смыслообразования в художественном тексте (на примере повестей Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Научный диалог. № 7. С. 56–69. DOI: 10.24224/2227-1295-2019-7-56-69
- Захаров В. Н., 1997. Ирония // Достоевский: Эстетика и поэтика: слов.-справ. / сост. Г. К. Щенников, А. А. Алексеев ; науч. ред. Г. К. Щенников. Челябинск: Металл. URL: https://fedordostoevsky.ru/research/aesthetics-poetics/160
- Кашина Н. В., 1989. Эстетика Ф.М. Достоевского. М.: Высш. шк. 288 с.
- Кашкин В. Б., Шилихина К. М., 2013. Существует ли «рецепт» иронии? (на материале русского и итальянского языков) // Вопросы когнитивной лингвистики. № 3 (036). С. 98–106.
- Кузнецова А. В., 2019. Рецептивно-интерпретативное пространство художественного текста: проблемная парадигма // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. Т. 12, вып. 12. C. 118–121.
- Кунильский А. Е., 1994. Проблема «смех и христианство» в романе Достоевского «Братья Карамазовы» // Проблемы исторической поэтики. № 3. С. 192–200.
- Логинова Н. И., 1999а. К вопросу об иронии у A.C. Пушкина («Капитанская дочка») и у Ф.М. Достоевского («Подросток») // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. № 5. С. 16–26.
- Логинова Н. И., 1999б. Формы и функции комического в романах Ф. М. Достоевского: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М. 22 с.
- Лосев А. Ф., 1995. Форма – Стиль – Выражение. М.: Мысль. 944 с.
- Маликова Т. О., 2006. Поэтика иронии в сказе В. Высоцкого // Вестник Томского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. Филология. № 2 (42). С. 314–315.
- Накамура К., 2011. Словарь персонажей произведений Ф.М. Достоевского / пер. с яп. А. Н. Мещерякова. СПб.: Гиперион. 399 с.
- Паси И., 1980. Ирония как эстетическая категория // Марксистско-ленинская эстетика в борьбе за прогрессивное искусство. М.: Наука. С. 60–84.
- Петрова О. Г., 2009. Ирония как способ создания образов персонажей в идиостилях Ч. Диккенса и У.М. Теккерея // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. Искусствоведение. Вып. 36. С. 73–77.
- Пивоев В. М., 1982. Ирония как эстетическая категория // Философские науки. № 4. С. 54–61.
- Пивоев В. М., 2000. Ирония как феномен культуры. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. 106 с.
- Походня С. И., 1989. Языковые средства и виды реализации иронии. Киев: Наукова думка. 126 с.
- Розанов В. В., 1996. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях / под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика. 702 с.
- Скуридина С. А., 2007. Поэтика имени у Ф.М. Достоевского (на материале романов «Подросток» и «Братья Карамазовы»). Воронеж: Науч. кн. 302 с.
- Тынянов Ю. Н., 1921. Достоевский и Гоголь (к теории пародии). Петроград: ОПОЯЗ. 48 с.
- Щенников Г. К., 2007. Сатира и трагедия как жанровые составные русского классического романа: «Господа Головлевы», «Братья Карамазовы» // Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения / под ред. Т. А. Касаткиной. М.: Наука. С. 687–693.