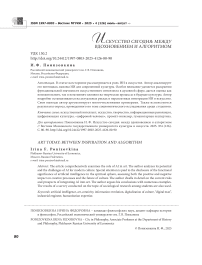Искусство сегодня: между вдохновением и алгоритмом
Автор: Понизовкина И.Ф.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (126), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье всесторонне рассматривается роль ИИ в искусстве. Автор анализирует его потенциал, вызовы ИИ для современной культуры. Особое внимание уделяется раскрытию функциональной значимости искусственного интеллекта в духовной сфере, дается оценка как положительного, так и негативного влияния на творческие процессы и будущее культуры. Автор подробно останавливается на актуальных рисках и перспективах интеграции ИИ в искусство. Свои выводы автор аргументирует многочисленными примерами. Также используются результаты опроса, проведенного по теме социологического исследования среди студентов.
Искусственный интеллект, искусство, творчество, информационная революция, цифровизация культуры, «цифровой человек», промпт-инженер, гуманитарная экспертиза
Короткий адрес: https://sciup.org/144163531
IDR: 144163531 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-4126-80-90
Текст научной статьи Искусство сегодня: между вдохновением и алгоритмом
«Искусство – это самая сложная машина, которую когда-нибудь создавал человек. Хотите – называйте его машиной, хотите – организмом, жизнью, но всё равно это нечто саморазвивающееся. И мы находимся внутри этого развивающегося…» [8]. Так характеризовал искусство известный советский и российский исследователь Ю. М. Лотман, считавший этот феномен формой мышления, «без которого человеческого сознания не существует, как не существует сознания с одним полушарием» [8]. Неслучайно искусство является древнейшей формой общественного сознания, сопровождавшей человечество на протяжении всего времени его существования, саморазвивающейся в сторону всё большего разнообразия, но мало менявшей свою суть.
Однако сегодня внешние условия существования искусства изменились настолько, что приходится всё чаще задумываться о факторах, способных (или не способных) коренным образом изменить этот древнейший феномен, его внутренние механизмы и характер взаимоотношений с ним.
Цифровизация и искусственный интеллект (ИИ) ворвались в нашу жизнь столь стремительно, подарив надежды на быстрое решение множества проблем в самых разных сферах нашей жизнедеятельности, что за оптимистичным настроем и решением конкретных вопросов тотального внедрения в нашу жизнь новейших информационнокоммуникативных технологий чуть не проглядели (или, по крайней мере, не успели осмыслить) возможные опасности и риски для общества, которые связаны, прежде всего, с непредсказуемостью последствий этого
Кто не ожидает неожиданного, тот не найдёт сокровенного...
Гераклит Эфесский быстро развивающегося и быстро распространяющегося в последние десятилетия феномена.
Однако зарождение ИИ произошло еще в середине XX века и стало революционным моментом в развитии человечества. Джон Маккарти не только ввёл термин «искусственный интеллект» в 1956 году на Дартмутской конференции с аналогичным названием, которая заложила основы для последующей глобальной технологической революции, но и сразу же задал общий вектор дискуссий по поводу этого нового феномена. За десять последующих лет это понятие прочно вошло в научный дискурс, непременным фоном которого стали неоднозначные оценки и споры, которые остаются актуальными до сих пор. Одной из первых в этом ряду дискуссий стоит работа Дж. Маккарти и П. Хейса «Некоторые философские проблемы с точки зрения искусственного интеллекта» (1969), которая подняла вопросы о пределах машинного «разума» и этике его создания [17]. Работа Маккарти и Хейса подчёркивала, что ИИ – это не только техническая, но эпистемологическая и гуманитарная проблема.
Современный ИИ имитирует человеческое мышление и его когнитивные процессы через алгоритмы машинного обучения, нейросети и анализ данных. Первоначально он применялся для оптимизации человеческой деятельности в логистике, медицине и управлении, но постепенно его функциональные возможности расширялись. Сегодня искусственный интеллект проник даже в сугубо творческие сферы, например, искусство. И начал решительно действовать, соревнуясь с человеком в его творческих способностях.
Запестрели необычными заголовками новостные ленты: в 2018 году почти за полмиллиона долларов на аукционе Christie’s была продана картина «Портрет Эдмонда де Белами», созданная коллективом «Obvious» с использованием ИИ; команда музыковедов с помощью ИИ «Playform AI» в 2021 году доработала эскизы великого композитора Бетховена и завершила его 10-ю симфонию; в 2022 году в новых сериях российского фильма «Диверсант» неожиданно – через технологию дипфейка – появился актер Галкин, умерший 12 лет назад. У многих зрителей и критиков эти факты вызвали культурный шок и неоднозначные оценки. Так, музыкальные критики назвали «алгоритмическую» музыку Бетховена «механической подделкой», лишенной подлинных эмоций и вдохновения композитора.
Активно интегрируясь в социум, искусственному интеллекту предстоит выстраивать отношения с искусством и его субъектом: либо активно внедриться в сам механизм творческого процесса индивида, либо отвоевать своё собственное место субститута в пространстве искусства, либо отойти на вторые роли «подручного» у мастера.
В современную эпоху развитие искусственного интеллекта формирует у социума новое миропонимание. Амбивалентность данного феномена вызывает (как у простых людей, так и исследователей) разнообразные эмоциональные реакции: для одних это источник вдохновения и надежды на прогресс, для других – повод для тревог и опасений непредсказуемых перемен. И это неудивительно, ведь влияние ИИ затрагивает не только технические аспекты, но и глубинные стороны человеческой жизни – саму сущность человека, социальные связи и определение своего места в окружающем мире. Понимание этих масштабных изменений требует внимательного социально-философского анализа процессов информатизации, что позволит выявить онтологические основания этого явления, заглянуть в будущее, определить вероятные направления развития общества и предсказать последствия этого феномена для человеческого бытия. Человечеству для опережающего регулирования необходимо, наконец, четко определиться в своем отношении к ИИ и его роли в жизни человека, неотъемлемой частью которой он стал в столь короткие сроки.
Особенно важно подвергнуть гуманитарной и социально-философской экспертизе влияние ИИ на то, что делает нас людьми, на духовную культуру. Ведь ИИ, прочно войдя в нашу повседневность, начинает активно проявлять сегодня себя в «художественном творчестве»: пишет музыку, создаёт картины, сочиняет стихи и даже снимает фильмы… И это только начало!
У многих, даже признанных мастеров, это вызывает пьяняще-обнадёживающие ожидания появления новых горизонтов творчества – для художников, музыкантов, писателей… Индивиды ощущают это как расширение своих возможностей для самовыражения. «Это позволяет даже опытным авторам экспериментировать и находить новые необычные формы самовыражения, актуализировать свои самые смелые творческие замыслы и мечты. Сегодня искусственный интеллект способен имитировать творческий стиль любого известного представителя литературы и искусства, создать по определенным критериям нужный сюжет, подобрать лучших актёров под определенные требования и мастерски имитировать их игру… Таким образом, ИИ способствует ускоренному воплощению практически любых фантазий индивида» [12]. Например, нейросеть может сгенерировать бесконечные вариации «в стиле Ван Гога» – 1000 картин за час. Это может быть интересно и полезно в процессе обучения художественному мастерству или специальности искусствоведа. Певица Holly Herndon считает, что «музыку необходимо «взламывать» [16], постоянно экспериментируя с ИИ. Для неё нейросеть – это реальный «участник» музыкальной группы, движение к новому типу искусства, который принес ей известность и доход.
Далее «ИИ может стать инструментом для демократизации доступа к культурному контенту в самом широком смысле. С одной стороны, платформы, использующие искусственный интеллект, могут предлагать персонализированные рекомендации, помогая людям находить выставки и произведения искусства для ознакомления, которые могут им понравиться или быть использованы для обучения. Следовательно, ИИ значительно расширяет зрительскую аудиторию – для художников, режиссёров, актёров и т. п. С другой стороны, субъектами искусства могут становиться с помощью искусственного интеллекта гораздо больше людей, которые научились управлять его возможностями» [12], особенно те, кого Бог не успел «поцеловать», наделив очевидными уникальными природными художественными способностями или профессиональными творческими навыками. Эту цифровую доступность к заветной сфере культуры индивид субъективно ощущает как ранее невообразимое расширение его творческих возможностей: с помощью выявленных алгоритмов можно генерировать новые произведения искусства, создавать музыкальные композиции, разрабатывать сценарии, делать мультфильмы и даже снимать бюджетные кинофильмы. Например, инструменты вроде Suno AI позволяют любому человеку без музыкального образования сочинять треки с заранее заданными характеристиками. Имеется опыт создания AI-фильмов с использованием искусственного интеллекта: швейцарский драматический фильм режиссера П. Луизи и сценариста chatgpt «The Last Screenwriter» (2024) или совместно Al-сгенерированный командой США, Великобритании, Франции, Германии и Чехии фильм-фентези «The Crow» (2024). «Съемки кинофильма с помощью ИИ позволяют обойтись без реальных дорогостоящих костюмов, природной натуры и даже множества реальных актёров. Написание литературных произведений и сценариев часто сводится к выдвижению четких требований и задач, с которыми должен справиться ИИ. Более того, эти две стороны с помощью ис- кусственного интеллекта могут легко синтезироваться, поскольку ИИ позволяет сделать зрительскую среду интерактивной, активно включающейся в творческий процесс соавторства – написание продолжения сценария кинофильма, сюжета картины и т. п.» [12]. Возможность сотворчества привлекает к использованию ИИ множество людей, никогда не имевших опыта самостоятельной духовной деятельности, но желающих оставить свой след в этой сфере и почувствовать свою причастность к творческому процессу.
Однако и для профессионалов в разных областях культурного творческого процесса ИИ предлагает множество заманчивых возможностей. Ведь творческую деятельность всегда сопровождает множество чисто автоматических действий и технических процессов, на которые мастер тратит силы и время. Искусственный интеллект способен избавить истинное творчество от этих рутинных задач и малоинтересных процессов [12], дав возможность для вдохновения и сосредоточения на главном – глубине содержания и идее произведения. ИИ может автоматизировать множество таких разнообразных задач, как анализ существующих трендов, выявление слабых мест и несоответствий в сюжете, оптимизация логистики и графиков работы (съёмок, например), редактирование текстов писателя или сценариста, раскадровка на основе текстовых описаний, визуализация идеи до начала съемок или написания картины, анализ актерских и модельных баз данных на основе предложенных требований (внешности, опыта и рейтинга), управление камерой, освещением и звуком, создание визуальных и звуковых эффектов, эксперименты с нетрадиционными материалами, стилями и формами, использование правдоподобных цифровых персонажей, подбор и корректировка цвета и фона, обработка изображений фотографа или оператора для усиления воздействия на зрителя, улучшение качества изображения, дубляж фильма и перевод на другие языки и т. д. и т. п. Но можем ли мы доверить ИИ выполнение более сложных творческих решений, переложив на него бремя принятия решений и ответственности за результат? Готовы ли мы к замене в искусстве творца-индивида новым носителем «интеллекта» и будет ли замена равноценной? Эти вопросы поднимают проблему современного технологического антропоморфизма, доверия к искусственному интеллекту и его одушевления – очеловечивания.
Ученый, известный писатель-фантаст Айзек Азимов, предвидя возникновение социальных проблем в результате технологической революции, ещё в 1950-х годах сформулировал законы использования робототехники, которые вывели взаимоотношения в системе «Человек – Технос» на новый уровень и стали методологическим базисом для защиты человечества от его собственных созданий: 1) робот не может причинить вред человеку; 2) робот повинуется командам человека; 3) робот заботится о своей безопасности с учётом 1 и 2 [1]. Позже Азимов добавил «Нулевой закон»: «Робот не может причинить вред человечеству в целом или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред». Эти законы поднимают вопросы границ автономии робота и деятельности человека, что особенно актуально и уязвимо в культурно-творческой деятельности. Парадоксы в книгах самого Азимова показывают сложность применения этих законов и явные противоречия. Может ли ИИ причинить вред человечеству в сфере искусства? В чем это проявляется? Возможно ли предотвратить это? На первый взгляд кажется, что реальный ущерб и вред меньше всего имеет отношение к сфере культуры и искусства. Однако, это обманчивое первое впечатление…
Обратимся к классическим определениям искусства. Поскольку у В. И. Даля определения этого понятия мы не найдем, классической дефиницией стало определение из словаря С. И. Ожегова: 1. Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. 2. Умение, мастерство, знание дела. 3. Самое дело, требующее такого умения, мастерства. [10]. Каждый представ- ленный концепт понятия «искусство» важен в контексте рассматриваемой проблемы взаимоотношений с ИИ.
Искусство как творческое воспроизведение действительности в художественных образах служило и служит специфическим инструментом познания мира, раскрывая аспекты реальности, недоступные научному анализу и другим видам познания, – от духовных переживаний до смысложизненных идеалов. Искусство позволяет возвыситься над реальностью и обыденностью, выйти за рамки рационального в пространство метафизических смыслов бытия, сферу возвышенного и прекрасного, устанавливающего внутреннюю гармонию человека с Универсумом. При этом настоящему искусству присущ ярко выраженный творческий характер – способность преодолевать устоявшееся, привычное и создавать принципиально новое и уникальное – смыслы, формы, высказывания и так далее.
Существует реальная озабоченность тем, что всё более широкое использование ИИ в искусстве, которое, казалось бы, способствует описанной выше демократизации и доступности культурной сферы, так называемому «виртуальному расширению человека» в этом направлении, приведёт к унификации стилей и форм в культурном пространстве, постепенной утрате высоких требований к художественно-образному выражению в искусстве. Если большая часть культурного контента будет генерироваться алгоритмами, это будет постепенно понижать уникальность и разнообразие культурного ландшафта. Конечно, живой интерес у публики способна вызывать весьма правдоподобная имитация искусственным интеллектом манеры, стиля и техники известных мастеров, что может даже вводить в заблуждение неискушённых зрителей. Однако эта «массовизация» искусства не может не привести к снижению (усреднению) общего уровня эстетического восприятия и притязаний к художественному творчеству, искусности (мастерству) творца с его неповторимым взглядом на мир.
Параллельно с формированием информационного пространства, его неотъемлемой части – цифрового искусства, развивается концепция нового типа человека – homodigitalis, которая провозглашает цифровую эволюцию человека через симбиоз с технологиями. Она вызывает полярные оценки. Погруженные в неизведанное пространство виртуальности некоторые исследователи – Р. Курцвейл (США), М. Кастельс (Испания/США), Г. Клименко (Россия) – встречают с оптимизмом и даже подчас с восторгом этого «цифрового человека», бросившего вызов представлениям о человеческой исключительности в творчестве [15]. Они надеются на дальнейший прогресс общества и расширение его социальнодуховной сферы благодаря коэволюции человека и алгоритмов.
Другие, к которым принадлежит исследователь В. А. Кутырев, отмечают, что подобные практики несут риски «дешифропологации», подменяя естественную среду искусственной информацией и угрожая гуманистическим ценностям [6, 9–16]. Еще лет 10–15 назад В. А. Кутырев предупреждал о перейдённом «Рубиконе антропологии» – умалении онтологии человека за счёт лавинообразных достижений хайтека, что может привести к полной деэволюции человеческой экзистенции [7].
Вместе с этим возникает проблема идентичности современной личности [4, с. 56], связанная с внедрением в её практику новых информационных технологий. Этому homodigitalis присущи новые отношения с виртуальной реальностью, новые цифровые ценности, новые представления о прекрасном и безобразном, новый эстетический вкус и новый культурный опыт. Его часто справедливо укоряют за «испорченное» са-мовосприятие и восприятие искусства без экзистенциального наполнения в изменившемся культурном пространстве – «упрощённое, поверхностное, часто через цифровой формат и призму заданных свойств и условий, алгоритмичное, которое обедняет эмоциональную сферу общения с прекрасным. Ведь, «кто не ожидает неожиданного, не найдет со- кровенного», как говорил древний Гераклит. А увидеть и почувствовать сокровенное, уникальное и глубинное – это то, ради чего мы погружаемся в мир искусства, чтобы обогатить себя иным духовным опытом, новой осмысленностью» [12].
Как справедливо заметил Лотман, имитации усваиваются легче, они понятнее и подчас приятнее публике. Но их массовое распространение в культуре всегда опасно. Искусство же часто непонятно, и потому подчас даже оскорбительно своей новизной. Однако искусство дает выбор там, где жизнь выбора не даёт [8].
Настоящее искусство всегда неожиданно и часто ломает шаблоны. Ван Гог, Кафка или Шостакович нарушали в процессе творчества правила своего времени, а ИИ, напротив, учится на уже существующем. Его «новаторство» – это вариации, ремиксы на тему, а не прорыв из пустоты. Когда алгоритм имитирует Шуберта или Рембрандта, зритель/ слушатель получает эстетический суррогат, а не открытие «экзистенциально сжатой вселенной». Уже упомянутый мной AI-фильм «The Last Screenwriter» (2024) технически безупречен, но критики единодушно отмечают сквозящую пустоту за диалогами.
Природа истинного творчества субъекта, создающего уникальные и проникающие в самое сердце произведения, способные «перелопатить» душу, экзистенциальна, таинственна и интимна. Анна Ахматова признавалась:
«Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда…»
Исчёрканные черновики А. С. Пушкина и многих других поэтов и писателей полностью это подтверждают. Машина генерирует «правильные» метафоры (например, «любовь – как пламя»), но не способна на «неожиданную» образность Цветаевой: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд». И этот мучительный для творца процесс подбора из сотен похожих слов наиболее подходящего по смыслу и состоя- нию души пока недоступен ИИ, поскольку искусственный интеллект душой и опытом не обладает. ИИ оперирует шаблонами, а не личной болью, озарениями или экзистенциальными поисками. Стихи Ахматовой о блокадном Ленинграде – это «выкристаллизованная боль», а не комбинация привычных семантических паттернов. ИИ «легко и быстро, «без мучений» подбирает слова, имитируя стиль любого поэта или писателя, но отсутствие меткости и неожиданной эмоциональной ситуативной точности языка выдаёт «машинное производство духовного продукта»» [12].
Это подтверждают и лингвисты. На недавно прошедшем в Плехановском университете VII Международном научном форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика» (15.05.2025, секция «Культура и этика в эпоху искусственного интеллекта»)1 филолог, профессор РУДН Я. А. Волкова привела в качестве примера распознавание искусственным интеллектом двух похожих по значению слов «злость» и «гнев», которые применяются, однако, в разных эмоционально-смысловых ситуациях в русском языке. ИИ, прекрасно разбираясь в теоретических концептах этих синонимов, при языковом переводе художественных текстов с английского языка не мог различить ситуационно-функциональные тонкости и эмоциональные оттенки употребления этих понятий и везде применял слово «гнев». Аналогичный подход ИИ можно наблюдать и в других сферах – изобразительном, музыкальном и кинематографическом искусстве.
Русский философ Н. А. Бердяев отмечал, что творец идёт к своим образам через свой субъективный опыт, часто болезненный, наполненный своеобразными смыслами, которыми о н делится с окружающими
1 Искусственный интеллект, этика и духовность – главные вопросы дискуссионной сессии форума «Шаг в будущее» в Плехановском университете // в своих произведениях, чтобы поведать им сокровенное, раскрыть им «тайны жизни» [2]. И выбирает для этого собственные формы донесения контекста и идеи. Подчас весьма неожиданные…
Известный русский художник В. Серов говорил, что настоящий талантливый живописец всегда допускает в своих картинах «волшебную ошибку», которая лишь на первый взгляд искажает реальность. Валентин Александрович настаивал: в картине надо обязательно «что-то подчеркнуть, что-то выбросить, не договорить, а где-то ошибиться: без ошибки – такая пакость, что глядеть тошно» [5]. Такая «ошибка» на самом деле помогает художнику обратить внимание на самое важное: выразить своё отношение к изображаемому, модели, показать потаенное в характере человека, поделиться через картину сокровенным. Очень показателен в этом отношении «Портрет Иды Рубинштейн» Серова, где он сознательно и явно деформирует тело танцовщицы, заостряет её очертания, чтобы более точно продемонстрировать свои чувства и позицию.
Дотошные критики и наблюдательные зрители замечали и указывали Серову на ошибку и в портрете Ф. Шаляпина: у певца на картине слишком длинная правая нога. Художник, конечно же, знал об этом, но настаивал на своём. Ведь «волшебная ошибка» подчеркнула впечатление художника от встречи с певцом – монументальность, могучесть Шаляпина. Это и делает картину уникальной, проявлением истинного вдохновения и впечатления здесь и сейчас. ИИ не обладает жизненным опытом, наблюдательностью и чувствами, потому может сделать идеальную картину, но не самобытную.
Именно в последнем заключается ценность творчества. Сегодня, благодаря вторжению виртуальных технологий, искусство развивается преимущественно вширь, демонстрируя всё новые, часто немыслимые, сочетания форм и стилей, а не вглубь контекстов содержания. Оно как бы предоставляет зрителю возможность стать соавтором и привне- сти своё содержание, поиграть в некую «угадайку», которая не подразумевает взаимного духовного обогащения, как при классической триаде: Я (автор), другой человек (зритель) и семиотическая среда вокруг нас.
Как к этому новому феномену относятся те, для кого цифровая среда стала привычным условием жизни, то есть молодежь? С надеждой или подозрением они встречают вторжение ИИ в сферу культуры? Мы со студентами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова – будущими социологами – провели небольшое исследование на эту тему среди учащихся вуза в виде онлайн-анкетирования посредством интернет-платформы Google Forms, которая была представлена на Плехановских чтениях-2025. В опросе приняли участие около 100 человек: 56,8% женщин и 43,2% мужчин. Преобладающий возраст респондентов – 20– 21 год (54%), меньше опрошенных было в возрасте 22–23 лет (28,4%) и 18–19 лет (17,6%). Студентом было предложено ответить на несколько закрытых вопросов.
Удалось выяснить, что большинство студентов склоняются к тому, что искусственный интеллект не может создавать искусство в подлинном смысле этого слова. Наибольшая доля опрошенных (40,5%) выразили мнение, что ИИ не обладает творческими способностями, а лишь выполняет заданные алгоритмы. Значительная часть студентов (36,5%) также скорее не согласны с тем, что ИИ создает искусство, полагая, что он лишь имитирует творческий процесс, не постигая его суть. Меньшая часть (16,2%) допустили, что ИИ способен создавать интересные произведения, но не считают их настоящим искусством. Лишь небольшая группа студентов (6,8%) уверены в способности ИИ к творчеству.
Согласно нашему исследованию, наибольшая часть опрошенных (45,9%) не видят никаких преимуществ в использовании ИИ в искусстве. Хотя почти треть студентов (29,7%) отметили ускорение и упрощение процесса создания произведений искусства в качестве основного преимущества. 14,9% опрошенных считают, что ИИ позволяет создавать произведения, неподвластные для человека. Незначительное количество студентов (8,1%) считает, что ИИ делает искусство более доступным для широкой аудитории. Таким образом, в студенческой среде нашего университета преобладает скептическое отношение к преимуществам ИИ в искусстве, при этом определенная часть студентов видит в нем инструмент, упрощающий процесс творчества и создающий что-то новое.
Был также задан вопрос по поводу рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта в искусстве. Треть опрошенных полагает, что все отмеченные риски (утрата уникальности, проблемы с авторским правом, обесценивание человеческого труда) актуальны – 33,8%. Четверть студентов основную угрозу видят в утрате уникальности и оригинальности произведений – 25,7%. В то время как некоторые обеспокоены сложностями в сфере авторского права и обесцениванием труда художников (16,2% и 14,9% соответственно). Однако небольшая часть студентов не видят никаких негативных последствий в применении ИИ в искусстве – 9,5%. В целом, результаты исследования демонстрируют осознание студентами потенциальных проблем, связанных с внедрением ИИ в творческую деятельность. Обнадеживает стремление современной «оцифрованной» молодежи к настоящему искусству!
Однако молодежью были подмечены и проблемы использования ИИ в искусстве. Это, прежде всего, правовые и этические вопросы, решение которых требуют новых юридических подходов. Как регулировать вопросы авторства и права на интеллектуальную собственность в условиях использования ИИ для создания произведений искусства? Кому принадлежит право авторства на произведение: ИИ, который его создал, или человеку, который задал творческие параметры поиска, или специалисту, который создал соответствующую программу? У каждого есть основания и аргументы, чтобы отстаивать свои права. Эта проблема вызывает
L
много споров, недоразумений и выявляет юридические пробелы.
В процессе интеграции ИИ в культурные процессы у общества возникает ряд этических дилемм, которые ставят человека перед ситуацией нравственного выбора. Подлинно духовное культурное пространство наполнено высшими моральными ценностями и связанными с ними смысложизненными аксиологическими проблемами. ИИ не обладает ни нравственностью, ни совестью, ни духом, ни опытом, ни пониманием…
Возникает ряд закономерных вопросов.
-
1 ) К каким последствиям в целом для человечества может привести «гуманитарная экспансия» ИИ? Ведь чрезвычайно тревожно звучит заключение всемирно известного американского миллиардера Илона Маcка о 20% возможности гибели человечества по причине возникновения бесконтрольности ИИ2. Обеспокоены той же проблемой представители духовной сферы. Так, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге предупредил о наступлении эпохи апокалипсиса и сравнил угрозу от технологий с применением ИИ с атомной угрозой3. В такое непростое время людям, по мнению патриарха, жизненно важно сохранить нравственные устои, традиционные ценности и веру. В связи с этим возникают и другие вопросы.
-
2 ) Насколько безопасно для окружающих и социума в целом доверять машинам принятие решений в области культуры и искусства? И можем ли мы возложить ответственность на искусственный интеллект за эффективное решение творческих задач по своему усмотрению? И к чему это приведё т? Уже сегод ня издательства начинают
-
2 Tangalakis-Lippert K. (Apr 1, 2024) Elon Musk says there could be a 20% chance AI destroys humanity – but we should do it anyway. In the Business Insider // https:// www.businessinsider.com/elon-musk-20-percent-chance-ai-destroys-humanity-2024–3
-
3 Патриарх Кирилл предупредил о скором апокалипсисе // https://ria.ru/20240911/kirill-1972094717 . html (дата обращения: 15.06.2025)
пользоваться ИИ для создания иллюстраций по запросу. Наиболее известными приложениями на основе использования ИИ для генерации изображений являются DALL-E и Midjourney. Это значительно экономит время и финансы. Но насколько ценностно релевантными и этически достойными будут «бездушные» рисунки? Сохранится ли человеческий контроль и конечный выбор за этой стороной творческого процесса? Уже создан в конце 2024 года первый в мире мультфильм, сгенерированный полностью ИИ4. Он был создан всего за пару месяцев (вместо классических 2–6 лет) в Белоруссии как пример талантливости нации, которая в этом вопросе оказалась впереди планеты всей. Но уже этот повторяющийся в положительных отзывах тезис вызвал жаркие споры: в чём же талантливость, если не были задействованы мастерство, творчество и энтузиазм команды реальных художников и сценаристов?… Вероятно, разработчика приложения или промпт-инженера, хотя и к ним есть претензии из-за множества ляпов и несостыковок в кадрах, которые были бы исключены при непосредственной работе художника. Конечно, такой эксперимент вызвал живой интерес, и многие зрители хотели увидеть не столько сюжет, сколько стать причастными к мировому новшеству. Что касается использования ИИ в мультипликации, остались неразрешёнными множество проблем. «Главный вопрос касается глубины этих произведений», которые детей «не только развлекают, но и затрагивают глубокие человеческие темы, передают эмоциональные истории, которые остаются с нами на всю жизнь. Эти элементы часто возникают благодаря человеческому опыту, интуиции и взаимодействию, которые сложно воспроизвести с помощью ИИ» [9]. Дру гой важный аспект касается аутентич-
-
4 В Беларуси впервые в мире создали полнометражный мультфильм с помощью ИИ // https:// belta.by/culture/view/v-belarusi-vpervye-v-mire-sozdali-polnometrazhnyj-multfilm-s-pomoschjju-ii-685487–2024/ (дата обращения: 15.06.2025)
ности сгенерированных произведений. Ведь мы сразу отличаем американские мультфильмы от советских или российских, хотя сюжеты могут быть похожи (как у «Тома и Джери» и «Ну погоди!»), по «культурному багажу» – по стилю, идее, ценностным образам, имеющим во многом национальную основу. Поэтому «мультики» – это важное средство социализации подрастающего поколения и приобщения к национальной культуре и традициям. Но сгенерированная мультипликация этого дать не может, так как не базируется на исторической памяти инационально-историческом опыте.
-
3 ) И, наконец, актуальным для оценки перспектив является вопрос духовной безопасности. Каким образом можно избежать использования ИИ без чьей-то предвзятости или преступных намерений? Как предотвратить и научиться отличать создание вредоносного, но при этом «качественно безупречного» контента или фальсификацию информации?
В связи с этим возникла новая профессия – промпт-инженер. Это специалист по правильной постановке запросов к нейросетям для получения релевантных результатов, который обучен правильному общению с ИИ, неспособным различать контекстные тонкости и подтекст заданий. Задача промпт-инженера – анализировать и делать точные текстовые запросы, чтобы получить адекватные ответы нейросети в соответствии заданными задачами и идеями [14]. Но справится ли промпт-инженер с обозначенными проблемами? Или необходимо привлечь специалистов разных областей знаний и разработать надежный механизм контроля за ИИ?
Таким образом, искусственный интеллект (ИИ) становится все более значимым игроком на художественной сцене, часто бросая вызов представлениям о человеческой исключительности в творчестве. Он открывает новые горизонты для самовыражения человека, расширяет сферы и возможности творческого созидания, имеет потенциал стать мощным инструментом в области культуры. Однако вместе с этим возникают серьезные риски «гибели субъекта» в искусстве, потери самобытности творчества при генерировании «цифрового человека», а также – этикоправовые дилеммы, которые требуют немедленного решения. Не хотелось бы стать свидетелями утраты подлинно человеческого в человеке вместе с утратой сути искусства при его тотальной диджитализации. Об этом вполне серьёзно и компетентно предупреждают сами разработчики этого явления, например, Директор разработчиков чипов Arm Holdings Рене Хаас [11]. Эта угроза становится всё более очевидной и для молодежи, хорошо знакомой с технологиями и возможностями ИИ.
Для того чтобы искусственный интеллект, начиная новую главу в жизни человечества (по словам В. В. Путина [13]), сохранил достигнутое и принес позитивные изменения в культурную сферу, важно создать авторитетную социально-гуманитарную экспертизу [3], установить четкие ограничения и легитимировать соответствующие правила, правовые и этические нормы, обеспечивающие баланс между необходимыми инновациями и защитой традиционных высших ценностей, делающих человека человеком, носителем Духа, подлинным субъектом истории.