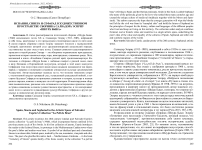Испания, Синера и Сефарад в художественном пространстве сборника Салвадора Эсприу "Шкура быка"
Автор: Николаева Ольга Станиславовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается поэтический сборник «Шкура быка» (1960) каталонского поэта XX в. Салвадора Эсприу (1913-1985), вобравший в себя темы, намеченные в его предыдущем стихотворном цикле из пяти книг. В своем первом сборнике стихов Эсприу знакомит читателя с вымышленной Синерой, прототипом которой стал средиземноморский каталонский городок, где появились на свет отец и мать поэта. Ставшая символом идеализированного прошлого и малой родины Синера - это обозримое ограниченное пространство, приметами которого являются море, горы, виноградники, оливковые рощи. Поэт, воспевший в книге «Кладбище Синеры» родной край, средиземноморскую Каталонию, в сборнике «Шкура быка» с любовью говорит о родной земле, имея в виду Испанию и Пиренейский полуостров, который в этой книге именуется Сефарадом (так полуостров много веков назад называли оказавшиеся там евреи, наряду с маврами и испанцами создавшие уникальную культуру средневековой Андалузии). Автор высказывает надежду на то, что молодое поколение сотрет с «истоптанной шкуры» кровавый след, оставленный гражданской войной, и построит будущее Сефарада на принципах уважения к истории, культуре и языкам разных народов, живших и живущих на этой территории. В анализируемом сборнике вымышленные, реальные или оставшиеся в историческом прошлом города и страны совмещены в едином художественном пространстве, и это подчеркивает идею поэта о ценности и равноправии культур Испании, Сефарада и других реальных и символических регионов мира.
Салвадор эсприу, каталонская поэзия xx в, сефарад, художественное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/149140452
IDR: 149140452 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-264
Текст научной статьи Испания, Синера и Сефарад в художественном пространстве сборника Салвадора Эсприу "Шкура быка"
Салвадор Эсприу (1913-1985), заявивший о себе в 1930-е гг. как о прозаике, мастере короткого рассказа, опубликовал в послевоенном 1946 г., полулегально, со скромным тиражом в 100 экземпляров, первое поэтическое произведение — «Кладбище Синеры» (“Cementiri de Sinera ”), открывающее цикл из пяти книг стихов.
Сборник «Шкура быка» (“La pell de brau ”), знаменующий начало нового этапа творчества, был издан с одобрения цензуры в I960 г, когда атмосфера в стране существенно изменилась, росли протестные настроения, в том числе среди университетской молодежи. Для многих студентов Барселонского университета, собравшихся в 1957 г. на первую свободную студенческую ассамблею, стихотворение Эсприу «Набросок песнопения в соборе» ^Assaig de cdntic еп el temple”) из книги «Путник и стена» стало символом сопротивления режиму Франко. В 1958-1959 гг. на встречах, проходивших в квартире одного из преподавателей, автор знакомил студентов с фрагментами сборника «Шкура быка», повторяя, что именно молодежи, в руках которой будущее страны, он адресует свою книгу. В 1960 г. Эсприу выступил с чтением стихов из этого цикла перед многочисленной аудиторией, собравшейся на Факультете философии и словесности Барселонского университета. Книга, повлиявшая на целое поколение читателей, имела большой успех и уже в 1963 г. была переведена на испанский, а затем на французский и итальянский языки, что было достаточно редким явлением для каталонской литературы в тот период [Pons 2013, 387-419].
В предисловии ко второму изданию сборника «Шкура быка» Эсприу обозначает свое несогласие с Ортегой-и-Гассетом, который полагал, что «каталонские “унитарии”, противопоставившие себя своим землякам, страдают врожденной неспособностью постичь исторические судьбы Испании» [Ортега-и-Гассет 2003, 23]. По мнению поэта, изложенному в том же предисловии, «те, кто живет на периферии полуострова, способны понять клубок самых насущных иберийских проблем» [Espriu 1985, 5]. Автор поясняет, что при помощи своей книги «Шкура быка» он стремился обосновать это утверждение.
Художественное пространство далеко не всегда точно соответствует

модели реального пространства, тем не менее, оно «обязательно сохраняет, в качестве первого плана метафоры, представление о своей физической природе» [Лотман 2015, 305]. Это замечание Ю.М. Лотмана справедливо и по отношению к книге «Шкура быка», где за историческим и мифологизированным Сефарадом кроется, прежде всего, Испания, а также любая другая страна, поскольку людям из разных концов света на протяжении веков приходится решать подобные проблемы и задумываться над общей историей и общими ценностями. Поэтический Сефарад Эсприу выходит за географические границы Испании, представляя собой нечто большее, чем конкретная современная страна.
Живший на рубеже I в. до н.э. и I в.н.э. греческий географ Страбон подметил сходство Пиренейского полуострова со шкурой быка. Эту метафору читатель встречает на обложке книги Эсприу в ее названии. На следующей странице, в посвящении, фигурирует другой топоним с тем же значением — Сефарад, который появился, видимо, приблизительно в то же время и который позже стали использовать в еврейском сообществе для обозначения Пиренейского полуострова. Два наименования одной и той же территории, соединенные в книге Эсприу, пришли из разных уголков Средиземноморья.
Имя собственное «Сефарад», как заклинание, повторяется в каждом втором стихотворении сборника. Упоминание Испании отсутствует в тексте стихов, но оно появляется в открывающей и завершающей книгу цитатах на испанском языке, которые обрамляют стихотворный текст сборника, написанный на каталонском языке. Это выдержки из произведений, относящихся к более позднему, чем указанные выше топонимические названия, историческому периоду. «Хроника Великого капитана» прославляет деяния испанского полководца начала XVI в.: «Отважны мужи, воплощение славы и чести Испании» [Эсприу 1987, 69], а строка из «Книги благой любви» (XIV в.) “Con buen servicio vencen Caballeros de Espana” [Espriu 1987, 74] («испанцы лишь после победы мечи вложат в ножны») — отрывок из наставления тем, кто стремится покорять не только неприятеля, но и женские сердца: «Вельможи гневливы, однако слуга осторожный / сумеет смиреньем своим гнев утишить вельможный; / испанцы лишь после победы мечи вложат в ножны, — / ужель в нежной страсти победы для них невозможны?» [Руис 1991, 116]. Освобожденная от контекста последняя цитата прекрасно вписывается в концепцию служения своей стране, предлагаемую в сборнике «Шкура быка» (“servicio” в буквальном переводе — «служение»), и соответствует морализаторскому тону части стихотворений сборника, с учетом контекста цитата согласуется с рядом сатирических элементов произведения, и пафос уступает место иронии. На двойственном смысле термина «благая любовь», которая способна возвышать дух и радовать тело, настаивает сам Хуан Руис [Плавскин 1991, 366], двойственное толкование имеют и цитаты в книге Эсприу.
Отмечая сложность интерпретации первой из цитат, Оливия Гассол приходит к заключению о том, что она однозначно подтверждает обра-266

щенность этой книги к Испании. Кроме того, как замечает исследовательница, ее использование может быть обусловлено желанием автора указать на манипуляцию историей, поскольку после гражданской войны в Испании Великого капитана нередко сравнивали с генералиссимусом Франсиско Франко, а политику объединения государства времен легендарного воина Гонсало Фернандеса де Кордова (1453-1515), известного не только благодаря военным победам, но и знанию арабского языка, с имперскими порядками диктаторского режима XX в. [Gassol i Bellet 2005, 137-138].
По мнению Альфреда Соха Веласко, эпиграф, отсылающий к исторической эпохе, с опорой на которую создавалась франкистская доктрина, сочетавшая католицизм и национализм, неслучайно предваряет сборник. С его помощью Эсприу полемизирует с видением Испании в духе Франко, критикует стремление к унификации культуры, нации, религии, противопоставляя официальной политике унитаризма и подчинения единение на основе принципов толерантности и уважения к инаковости, что акцентируется использованием еврейского названия испанских земель, на которых рядом с христианами жили иудеи, представители иной веры и культуры [Sosa-Velasco 2007].
Во время круиза по Средиземному морю, организованному в 1933 г. с учебно-просветительскими целями правительством Испанской республики для студентов испанских университетов, группа, в состав которой входил Эсприу, встречалась в греческих городах с евреями-сефардами, сохранившими родной язык и добрую память о покинутых предками местах. Потомки испанских евреев тепло приветствовали универсантов, демонстрировали им передававшиеся из поколения в поколения реликвии— ключи от утраченных жилищ. Возможно, еще тогда у автора «Шкуры быка» зародилась идея обращения к истории Сефарада [Pons 2013, 102-114].
«Шкура быка» драматичнее и динамичнее элегичного сборника «Кладбище Синеры», отклика на военный конфликт и события в Испании конца 30-х гг, переживаемые как личная трагедия. В первом стихотворении сборника 1946 г. Синера в закатных лучах солнца воспринимается как идеализированный образ прекрасного прошлого, с которым в одиночестве прощается лирический герой.
Первое стихотворение «Шкуры быка» такое же программное для всей книги в целом, как и стихотворение, открывающее цикл «Кладбище Синеры», в котором именно лирический герой знакомит читателя с Синерой, ставшей в поэзии Эсприу синонимом родного края. В сборнике «Шкура быка» лирический герой не находится в центре внимания, гораздо реже употребляются глагольные формы первого лица единственного числа, а Синера уступает место Сефараду. Сборник открывает сцена кровопролития: бык раздирает в клочья шкуру быка, — страна, разделенная на две части, уничтожает сама себя, люди выбирают саморазрушение, затевая братоубийственную войну, победа в которой, по мнению Салвадора Эсприу, невозможна [Espriu 1987, 18].
Карлес Миральес указывает на цвета окровавленного дырявого полотнища бычьей шкуры, освещенной солнцем, — красный и желтый [Miralles 2005, 93], хотя и не заостряет внимания на том, что это цвета испанского и каталонского флага, атрибута государственности: «Бык на арене Сефа-рада / поддел распяленную бычью шкуру / и превратил ее во флаг. / Так бычья шкура на ветру, так шкура / в подтеках крови превратилась / в полотнище, пронизанное солнцем» [Эсприу 1987, 69]. К. Миральес, ссылаясь на документальные свидетельства, высказывает предположение, которое разделяет английский ученый Артур Терри [Terry 1985, 151], о том, что на страницах книги изображен еще один символ государственной власти— герб Испании того времени [Miralles 2005, 107]. Таким образом создается определенный контекст, сопутствующий размышлениям о принципах государственного устройства, и косвенное указание на то, что под Сефарадом подразумевается, в первую очередь, Испания.
Кинематографичная метафора жестокого торжества, ведущего к гибели страны, из процитированного выше стихотворения напоминает финальные кадры фильма Луиса Берланги 1985 г. «Коровенка» (“La vaquilla ”), где корова, участница злополучной корриды, не достается ни республиканцам, ни их противникам, она — добыча хищных птиц. Для Эсприу и Берланги в гражданской войне не может быть победителя; художник слова и кинорежиссер иллюстрируют свою мысль посредством схожих образов.
В первом стихотворении сборника «бычью шкуру», Сефарад, — одновременно грозное живое существо-убийцу и пространство — автор называет «молитвой нашей и проклятьем» [Эсприу 1987, 69], используя притяжательное местоимение второго лица, множественного числа. Сохраняя схему «я-ты», связанную с обращением к малой родине из цикла «Кладбище Синеры», где события и переживания, сопутствовавшие гражданской войне, осмысливались в пределах личного пространства, поэт вводит парадигму «мы-вы», обращаясь к стране. В следующем стихотворении Эсприу возвращается к линии, обозначенной в «Кладбище Синеры», и использованию единственного числа, —лирический герой заявляет о своей привязанности к Сефараду-Испании. Он хранит Сефарад, вместе со своими горестями и горестями общими, в сердце: «когда погружаю взгляд / в душу свою, в свой ужас, / я вижу годы подряд / шкуру быка под солнцем— / старый мой Сефарад» [Эсприу 1987, 70].
Далее пространство вновь трансформируется, и шкура быка превращается в барабан, по которому несется бешеный конь смерти или сам Сефарад [Espriu 1987, 15]. По мнению Соса-Веласко, в этом, как и во всех первых семи стихотворениях, речь идет об «исторических результатах гражданской войны в Испании» [Sosa-Velasco 2007, 273], хотя точнее было бы сказать, что события этой эпохи постепенно сливаются с событиями из истории еврейского народа, произошедшими много веков назад. Пространство постоянно меняется, отражая противоречивые грани действий и чувств человека, временная перспектива тоже не остается неизменной, и недавнее прошлое постепенно объединяется с далекой эпохой.

Исторической родине евреев, переселившихся в Испанию и полюбивших эту землю, отводится важное место в сборнике «Шкура быка». Си-нера, Сефарад, Израиль, вымышленные, реальные или оставшиеся в прошлом топонимы, совмещены в едином художественном пространстве, между ними нет территориальных и временных границ. Местоимение «мы» из седьмого стихотворения относится не только к оказавшимся в Испании евреям, но и к каталонцам, жителям Пиренейского полуострова или других мест, которые не собираются покидать края, избранные предками: «“Почему вы остаетесь здесь, / в этой хмурой и выжженной, / залитой кровью стране, / что же — это и есть / лучшая земля / на долгом / пути / Изгнания?” — / мы, вспоминая / наших дедов и наших отцов, / лишь отвечаем / с едва заметной усмешкой: / “Да, лучшая, когда снится”» [Эсприу 1987, 72].
Процитированное выше стихотворение перекликается со скорее поэтичным, чем научным, определением «родины», которое поэт дал в подготовленном им разделе о Древней Греции для трехтомного издания «Всемирной истории» 1943 г. «Родина для истинного грека (возможно, и в целом для настоящего жителя Средиземноморья) — это город, где родились и умерли предки, где он сам родился и умрет в назначенный день, и земля вокруг, которую глаз охватывает без усилия и понимает до мельчайших деталей: источник, почти пустынные почвы, солнце в пыли, кипарисы, маленькое пшеничное поле у дороги между оливковых деревьев свинцового цвета. Виноградник взбирается по склону горы до самой грани. В дали усеянное островами море без широких горизонтов, сулящее спокойное плавание» [Delor i Muns 1993, 475-476]. В определении собраны общие для представителя любой национальности характеристики родной земли и перечислены особенности конкретной местности. В нем звучат отголоски образа средиземноморской Синеры, которая тоже включена в художественное пространство сборника и является частью Сефарада. Сине-ра, прочитанное наоборот название приморского каталонского городка Ареньса, олицетворяет родной край, ту его часть, которую можно охватить взглядом. Именно Синеру в первом сборнике стихов Эсприу называет родиной, словом, которое не фигурирует на страницах книги «Шкура быка», где используется существительное «земля».
Хотя упоминание Синеры встречается только в стихотворении XXXVI, в других фрагментах ее легко распознать по описаниям растительности и пейзажа, знакомым читателю по посвященному ей циклу. Природа и рельеф Сефарада обрисованы более абстрактно, описание сводится в основном к упоминанию выжженных полей. Именно в Синере крепнет желание увидеть обновленный Сефарад. Над Синерой, над ее виноградниками, кипарисами и морем «обозначают крылья нам / ясней сияние света, сильней стремление / к большому милостивому небу, новому небу Сефарада» [Espriu 1987, 51] (подстрочный перевод автора статьи).
Я-субъекту из цикла «Кладбище Синеры» Синера являлась в мечтах и снах, в книге «Шкура быка» крепнет вера в то, что «мало-помалу ста-
нут / жизнью смутные сны» [Эсприу 1987, 75]. Во второй части книги все чаще мелькает слово «надежда», и поэт не сомневается в том, что «молодые руки» поднимут с земли «истоптанную шкуру».
Грядущему поколению предстоит достать с чердака истории старую жаровню, чтобы растопить лютую зиму Сефарада [Espriu 1987, 28]. Показательно, что это чердак околдованного смертью дома в предместьях Венеции, которую в начале XVI в. защищал от турецких войск Гонсало Фернандес де Кордова [Ruiz-Domenec], Таким образом, с судьбой Сефарада соединяется еще один средиземноморский топоним, который, в отличие от мифической Синеры или самого Сефарада, фигурирует и на современных картах.
Автор достаточно детально обрисовал комнаты этого дома — захудалой венецианской гостиницы, где постояльцев встречает кухонный чад и шарманка с волшебной музыкой времени и воспоминаний, запахи и звуки, которые, как и предметы, организуют и заполняют это пространство. В сборнике «Кладбище Синеры», например, не имеет значения, что именно находится внутри родительского дома, поскольку «дом» — одна из тех мифологизированных реалий с богатыми ассоциативными связями, которые «обросли устойчивыми значениями» [Лотман 1995, 787]. Важно само существование дома в окружении идиллического сельского пейзажа родного края, на описании которого делается особый акцент.
Лестница, излюбленный символ Эсприу, как правило, позволяющая выбраться из темных глубин лабиринтов или колодцев к светлым вершинам и открытым небесным просторам, в этом стихотворении тоже ведет вверх, но на этот раз к замкнутому пространству чердака с забытыми за ненадобностью, покрытыми паутиной вещами, оставшимися в прошлом. Зловещий и завораживающий, не слишком привлекательный гостевой дом, место, где все люди лишь постояльцы, все же ограждает нас «от дыхания ночного ветра, готового напасть исподтишка как дикий зверь» [Espriu 1987, 7] (подстрочный перевод автора статьи), и хранит прошлое, историю, без связи с которой нет будущего. В следующем стихотворении крепнет уверенность в том, что чердак будет открыт, проветрен и наполнится светом.
Венецианским сюжетом начинается серия стихотворений, в которых превалирует городской пейзаж, практически полностью отсутствовавший в сборнике «Кладбище Синеры», в котором нет и бытовой конкретизации, появившейся в книге «Шкура быка» именно при описании городской среды. Само слово «город», не употреблявшееся в «Кладбище Синеры», неоднократно используется в сборнике I960 г.
Эпическое, сплоченное, народное «мы» из VII эпизода не равняется более разрозненному, разделенному на одних и других [Espriu 1987, 33], «мы»-сообществу, изображенному в городской среде. Это литераторы, собравшиеся на трапезу под деревом, на котором висит тело совершившего суицид под впечатлением от расправы над «птицей солнца» пьяницы Ие-худи. С мотивом пира, устроенном на фоне несчастья, согласуется кощун-
ственное отношение пирующих к смерти. Те, кто владеет словом, найдя в себе смелость, могли бы обличить зло, но, занятые собой, они проявляют безразличие к беде конкретного человека и к охватившей страну общей беде. «Разрушение нормы создает образ необходимой, хотя и нереализованной нормы» [Лотман 1996, 129], вскрывает потребность в гармонии.
Созидательной деятельности мешает страх, ассоциирующийся с замкнутым пространством колодца, в который лирического героя заточают слова, но и вырваться из него можно благодаря слову, поэзии: «Вниз по ступеням / собственных слов — / меркнет над нами / неба покров, / спуск в заточенье, / в темный острог, — / ужас колодца / в душу натек. / Вверх — по ступеням / собственных слов — / к свету мы рвемся / прочь от оков» [Эсприу 1987, 76].
Ограниченному пространству колодца противопоставлено открытое широкое пространство неба и света, обуславливающее движение по вертикали, а также пространство моря, которому соответствует движение по горизонтали. Если в сборнике «Кладбище Синеры» «не покидают лодки / родной причал: / дороги водяные сошли с ума» [Эсприу 1987, 25], то в книге «Шкура быка» звучит призыв выйти в море и, невзирая на опасности, бороться за свободу и справедливость: «Придерживаясь заветов, / которые ты сбережешь, / в спорах жестоких с теми, / кто на тебя похож, / не торопясь воздвигни / храм своего труда, / стены нового дома / на пустоши — и тогда / ты сможешь имя свободы / ей наречь без стыда. / Ты, который сегодня / в Сефараде живешь, / не живи больше смертью, / отвергни трусость и ложь, / рискни и от всех недугов / сам себя излечи. / В море при свете молний, / судьбу испытай в ночи» [Эсприу 1987, 80].
Пространство, описываемое поэтом в сборнике, многопланово: оно становится одушевленным, превращаясь в быка, овеществляется, превращаясь в барабан, проникает во внутренний мир лирического героя, оказываясь в его сердце. Пространство — это предмет и живое существо, это чувства (любовь, ненависть, страх) и их проявления (рыдание и смех), это смерть и история. Оно многолико в географическом и в историческом плане. Используя разные названия Пиренейского полуострова, обращаясь к разным моментам его истории, к другим, связанным с ним вымышленным и реальным территориям, поэт подчеркивает свою мысль о ценности, многообразии и равноправии культур этого региона: “Diversos son els homes i diverses les paries, / i han convingut molts noms a un sol amor” [Espriu 1987, 46] («Несхожи люди и наречия несхожи — / одной любви подходят разные имена» [Эсприу 1987, 78]). Язык художественного пространства— «один из компонентов общего языка, на котором говорит художественное произведение» [Лотман 2015, 306], и Салвадор Эсприу использует его, чтобы рассказать об истории народа и об истории человечества, чередуя и совмещая прошлое и современность.
Список литературы Испания, Синера и Сефарад в художественном пространстве сборника Салвадора Эсприу "Шкура быка"
- Лотман Ю. M. Внутри мыслящих миров. Человек—текст — семиосфера— история. M.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
- Лотман Ю. M. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Шб.: Азбука-Аттикус, 20i5. 416 с.
- Лотман Ю. M. Пушкин. Шб: Искусство-ШБ, 1995. S47 c.
- Ортега-и-Гассет X. Бесхребетная Испания. M.: АСТ, 2003. 263 с.
- Плавскин З. И. Испанский гуманист XIV столетия II Руис X., архипресвитер из Иты. Книга благой любви I пер. M. А. Донского. Л.: Наука, 1991. C. 305-376.
- Руис X., архипресвитер из Иты. Книга Благой любви I пер. M. А. Донского. Л.: Наука, 1991. 415 с.
- Эсприу C. Избранное. M.: Радуга, 1987. 432 с.
- Delor i Muns R. M. Salvador Espriu, els anys d'apenentatge (1929-1943). Barcelona: Edicions 62, 1993. 520 p.
- Espriu S. La pell de brau. Barcelona: Edicions 62, 1985. 76 p.
- Espriu S. Obres completes. Poesia, II. Barcelona: Edicions 62, 1987. 309 p.
- Gassol i Bellet O. La pell de brau de Salvador Espriu o el mite de la salvació. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003. 209 p.
- Miralles C. La pell de brau: construcción poética, sentit i interpretació II Si de nou voleu passar. I Simposi Internacional Salvador Espriu. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005. P. 93-128.
- Pons A. Espriu, transparent. Barcelona: Proa, 2013. 763 p.
- Ruiz-Domènec José Enrique. Gonzalo Fernández de Córdoba II Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico Electrónico. URL: https:IIdbe.rah.esI biografiasI11225Igonzalo-fernandez-de-cordoba (дата обращения: 07.02.2022)
- Sosa-Velasco A. J. Mito y religión en La pell de brau: judíos y catalanes en la España franquista II Romance Quarterly. 2007. Vol. 54. № 4. P. 271-279.
- Terry A. Sobre poesia catalana contemporània: Riba, Foix, Espriu. Barcelona: Edicions 62, 19S5. 171 p.