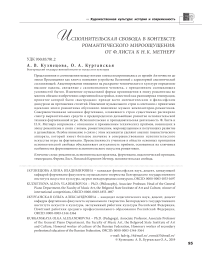Исполнительская свобода в контексте романтического мироощущения: от Ф. Листа к Н. К. Метнеру
Автор: Кузнецова А.В., Курганская О.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Художественная культура: история и современность
Статья в выпуске: 1 (87), 2019 года.
Бесплатный доступ
Представления о соотношении между нотами гаммы воспринимались со времён Античности до эпохи Просвещения как ключ к познанию устройства Вселенной с характерной аналитической составляющей. Акцентирование внимания на раскрытие человеческого в культуре определило высшие идеалы, связанные с самопознанием человека, с преодолением сковывающих условностей бытия. Изменение музыкальной формы произведения в эпоху романтизма во многом обязано изобретению современной настройки, известной как равномерная темперация, принятие которой было «выстрадано» прежде всего математическим и философским дискурсом на протяжении столетий. Изменение музыкального строя в сочетании с принятыми идеалами эпохи романтизма обусловило появление музыки композиторов-романтиков. Совершенствование механики фортепиано, клавишного строя существенно расширило спектр выразительных средств и предопределило дальнейшее развитие исполнительской техники фортепианной игры. Исполнительская и преподавательская деятельность Ф. Листа и Н. К. Метнера сопряжена с описанием и применением технических приёмов, возникших в эпоху романтизма в связи с новым, романтическим, мироощущением и получивших развитие в дальнейшем. Особое внимание в связи с этим музыканты уделяют анализу пианистического аппарата, который имеет большое значение в совершенствовании исполнительского искусства игры на фортепиано. Преемственность учеников в области основных принципов исполнительской свободы обуславливает актуальность приёмов, основанных на ключевых особенностях фортепианного исполнительского искусства романтиков.
Романтизм, исполнительская практика, фортепиано, педагогический принцип, темперация, ференц лист, николай карлович метнер, исполнительская свобода
Короткий адрес: https://sciup.org/144161261
IDR: 144161261 | УДК: 930.85:781.2
Текст научной статьи Исполнительская свобода в контексте романтического мироощущения: от Ф. Листа к Н. К. Метнеру
1КУЗНЕЦОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой фортепиано факультета музыкального творчества Белгородского государственного института искусств и культуры, лауреат международных конкурсов, ORCID: 0000-0003-1853-1697
KUZNETSOVA ALINA VLADIMIROVNA – Ph.D. (Philosophy), Associate Professor, Head of the General Piano Department, the Faculty of Music Art, the Belgorod State Institute of Art and Culture, winner of international competitions, ORCID: 0000-0003-1853-1697
2КУРГАНСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры фортепиано факультета музыкального творчества Белгородского государственного института искусств и культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, ORCID: 0000-0003-1344-3364
KURGANSKAYA OLGA ALEXANDROVNA – Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor, Associate Professor of the General Piano Department, the Faculty of Music Art, the Belgorod State Institute of Art and Culture, Honored worker of culture of the Russian Federation, Honorary worker of secondary professional education of the Russian Federation, ORCID: 0000-0003-1344-3364
A. V. Kuznetsova, O. A. Kurganskaya
Belgorod State Institute of Arts and Culture, Koroleva str., 7, 308033, Belgorod, Belgorod region, Russian Federation
PERFORMING FREEDOM IN THE CONTEXT
OF A ROMANTIC WORLDVIEW:
FROM FRANZ LISZT TO NIKOLAY MEDTNER
Музыкальная форма произведения, его границы, существенно зависят от типа темперации музыкального произведения. Создание современного равномерно темперированного строя, господствующего в европейской профессиональной академической музыке, стало возможно в результате разработки к 1887 году метода «прослушивания ровной последовательности биений на протяжении всей хроматической гаммы» [6, с. 230]. Конечно, сама потребность в таком методе была «выстрадана» философским и математическим дискурсом на протяжении столетий и в какой-то мере стала философским идеалом преодоления сковывающих условностей бытия. Но конечной фазе обоснования «правильности» и необ- ходимости (агитации) подобного строя мы обязаны во многом композитору и теоретику музыки Жан-Филиппу Рамо. Д’Аламбер, популяризуя идеи Рамо о гармонии в книге «Элементы теоретической и практической музыки согласно принципам г. Рамо» (1752), отмечал заслуги композитора и теоретика в упрощении исполнения музыки, которое позволило музыкантам рассуждать логически и пользоваться аналогиями. Это помогло не только сделать музыку наукой, достойной изучения философами, но и воплотить стремления к выразительности глубочайших идей эпохи романтизма. Благодаря книге идеи композитора стали известны широкой публике, однако, справедливости ради, отметим, что пожилому Рамо не по- нравился слишком упрощённый взгляд на свои идеи, что впоследствии отразилось в известной полемике с Д’Аламбером.
Разумеется, совершенствование механики фортепиано, клавишного строя существенно расширило возможности инструмента и обусловило поиск новых выразительных средств, развитие и совершенствование исполнительской техники фортепианной игры. К этому времени уже более полувека композиторы-романтики старались при помощи музыкальных средств наиболее полно выразить богатство внутреннего мира человека. А многие произведения, в частности Ф. Листа, в музыкальной форме которых наиболее полно воплощается музыкальное содержание, не могли бы существовать в иных темперациях. Кроме того, тип темперации играет роль в выборе тонов, с которыми, как известно, ассоциируются определённые (субъективные) характеристики. Субъективное восприятие музыкального произведения начинается с допредикативного уровня, но уже в нём посредством музыки и именно «в музыке … мы видим всю нашу обыденную склонность к абстракции» [11, с. 318] чистых качеств предмета. Например, душевный подъём или грусть, навеянная музыкой, – это не свойство предмета, но сущность его [11, с. 298]. Вместе с тем собственно интенциональность не тождественна осознанности, ведь многие состояния не всегда осознаются. Таким образом, в музыкальном мироощущении переплетаются познание чистого качества предметов и непрерывный поток бытия.
К сожалению, композиторам иногда приходится транспонировать свои произведения по техническим причинам, отходя от первоначального замысла, как из-за сложности исполнения, так и для лучшего восприятия музыкального произведе- ния публикой. Почему – к сожалению? Потому, что в смыслах заключено больше, чем в созерцаниях: чувственное сознание имеет логику своего порядка. Музыкальное произведение, как и любое другое произведение искусства, «есть прежде всего познание, а в познании является главным прежде всего степень его оформления» [11, с. 302]. Технические трудности исполнения вызывали, например, произведения в тональностях фа-диез-минор и фа-диез-мажор в силу «крайнего» расположения в темперации. Тем не менее мы отмечаем, что тональность фа-диез-минор часто использовалась в произведениях Ф. Листа, Ф. Шуберта и других романтиков. А фа-диез-мажор – у Й. Гайдна, Л. Бетховена и Ф. Шопена. В связи с этим претерпели изменения интерпретации тональных характеристик, связанных с субъективным восприятием акустических различий, отличающихся от классических образцов. Кроме того, сюжеты романтической музыки во многом автобиографичны, несут на себе печать индивидуальности автора и в силу программности музыкального произведения вызывают личные ассоциации. И здесь акцентируются именно свойства языка, а не текста, потому что «текст» у каждого свой. В данной связи отметим, что «обучающимся … не хватает сведений о стиле … автора, его собственной исполнительской манере» [9, с. 202]. Таково было общее видение музыкального текста в эпоху романтизма.
Следуя известному принципу единства музыки и речи, облекаемого в определённую форму звуков-фонем (объединённых в слова-знаки), отметим, что слово становится производной (формой) упорядочения интерсубъективной жизни человека, представленной в допредикативных структурах обыденности. Однако сам музыкальный звук уже есть «существующая абстракция, если его брать из цельной музыкальной массы» [11, с. 320], позволяющая мысленно обосабливаться от губительной иррациональности чувств. Такое отвлечение в фонетической составляющей, ориентированной всё же на эмоциональный аспект, настраи- вает нас не на объяснение, а на понимание: почувствовать смысл, который нам видится в отношениях, связях между событиями и их выражениями» [4, с. 231]. Вместе с тем исследователи отмечают, что и на более высоком уровне абстракции, которые выражаются в категориях художественного мышления, «включая музыкальный образ, в отличие от формы, фактически не признаются структурными категориями и относятся к области идеального как не поддающегося текстовому анализу» [16, с. 32].
В эпоху романтизма мы отмечаем возрастающий интерес к фортепианной игре, рояль прочно вошёл в моду, и число желающих овладеть этим инструментом существенно возросло. Справедливости ради отметим, что подавляющее большинство виртуозов не обладали особым интеллектуальным уровнем. Это было связано прежде всего со спецификой методических принципов, которыми руководствовались преподаватели фортепианной игры. Многочасовая «зубрёжка» отнимала практически всё свободное время. Для подобных автоматических тренировок с бесконечной игрой гамм и упражнений «успехом пользовались … механические приспособления – хиропласт Ложье, “руковод” Кальбреннера, дактили-он Герца» [1, с. 4]. Исключение, пожалуй, составляли известные личности, совмещавшие свою концертную деятельность с практикой педагогического характера. Таким исключением, в частности, являлся Ф. Лист – не только исполнитель-виртуоз, но и композитор, педагог, дирижёр. По праву Лист является пропагандистом высокого искусства, представителем романтизма в музыке. Представление о его педагогических указаниях мы составляем из записей, сделанных Констанцей Буасье. По прочтении заметок об уроках Листа создаётся впечатление, что для него педагогическая работа в степени своего осуществления обладала той спецификой, душевною потребностью, которую мы обнаруживаем в известном описании у Пигмалиона. Кроме того, Лист был щедро наделён массой личностных достоинств. Существует достаточное количество литературы биографического, мемуарного характера, позволяющей нам быть не одинокими в данной мысли. Действительно, «если педагог для учеников значим и эмоционально привлекателен, то в этом случае они … поддаются персонализирующему (преобразующему) воздействию педагога, проявляют готовность работать над собой, развиваться, проявлять творческую инициативу. Можно утверждать, что “значимость” учителя является одним из самых сильных стимулирующих факторов вовлечения в искусство…» [2, с. 1409].
Несмотря на то, что преподавательская деятельность Ф. Листа была в определённой мере неизбежной необходимостью для восполнения средств к существованию, музыкант совершенно бескорыстно занимался со многими учениками. Сам Лист, разумеется, не только совершенствовал свою технику исполнения, но и не менее интенсивное внимание уделял умственному развитию. Возможно, в этом сокрыта одна из причин, по которой в свои концерты он включал произведения, которые не всегда находили отклик во вкусах широкой публики [10, с. 67]. Собственное понимание музыки Листом не могло не сказаться на манере исполнения музыкальных произведений. Вместе с тем эти взгляды определили задачи исполнительского искусства, внеся определённую новизну в методику исполнительской практики. Мысль о том, чтобы «что-то изображать», необходимо это «что-то» хорошенько изучить, – канвой проходит в основных принципах естественности выражения. Эта естественность исполнения достигается в реализации двух педагогических принципов, исповедуемых Листом: эмоциональное воздействие на ученика и обращение к его разуму (понимание, контроль). Это путь осмысленности в обучении, сопряжённый с внимательностью и сосредоточением. Ведь только так, по замыслу Листа, и возможно впоследствии наиболее полно выразить художественную идею музыкального произведения, воплощённую как композиторский замысел. Технически это достигается расширением палитры нюансировки, возможностью поливариативной динамической настройки исполнения музыки. В овладении любой техникой исполнения, необходимой для первоклассной игры на фортепиано, существуют особые трудности. Начальные, так сказать, обусловлены чисто технически, которые преодолеваются постепенно. В дальнейшем трудности проявляются в способности исполнителя воссоздавать общую концепцию музыкального произведения в более крупных пропорциях. Без прохождения данных этапов практически невозможно выстроить композицию в той художественной манере, которая была бы свойственна самому автору. Преодоление технических трудностей Лист видел в последовательной реализации следующих «формул»: 1) октавы и аккорды; 2) репетиции и трели; 3) двойные ноты (терции, сексты); 4) гаммы, арпеджио. Здесь Лист предлагает ту последовательность овладения техникой, которая позволяет переходить от «крупной техники» к более детальной, «мелкой технике». Свобода, выраженная в естественности исполнения, является одним из характерных признаков первоклассной игры на фортепиано. Технически невозможно достичь подобной манеры исполнения, не освободив полностью руки. В этом был убеждён Лист, который довольно наглядно демонстрировал своим ученикам приёмы исполнения ок- тавных гамм. Отметим, что крупная техника (каскады аккордовых и октавных пассажей и т.п.) появляется именно в период романтизма. Действительно, в классическую эпоху при игре на фортепиано пианист использовал так называемую мелкую технику (гаммообразные пассажи, арпеджио). Отличительной особенностью такой техники является то, что при исполнении участвуют главным образом фаланги пальцев. В романтической музыке, как мы убедились, в связи с появлением нового класса художественных задач, используются особые приёмы игры от плеча, всей свободной рукой. Сама постановка таких исполнительских задач была ответом на художественные и мировоззренческие запросы времени, так как для выражения романтических идей в музыке требовались новые технические средства. Крупной (аккордовой, октавной, скачковой) техники не было до эпохи романтизма, но она осталась после неё, так же как и рояль эпохи романтизма практически не изменился в сравнении с современным инструментом. И по сей день приёмы крупной техники, возникшие и обоснованные в эпоху романтизма, при исполнении фортепианных произведений романтического и последующих периодов являются актуальными. Таким образом, Ф. Лист прозорливо воплотил метод, в основе которого лежит не только чисто технический аспект рекомендаций для исполнительской практики, но и весь принцип (знание в свёрнутом виде) романтизма, «философия в свёрнутом виде». В данной связи как нельзя кстати слова известного советского педагога, пианиста Я. Мильштейна: «в одном кратком указании такого гения, как Лист, содержится больше истины и практической ценности, чем в толстых фолиантах фортепианных методологов» [12, с. 185].
Актуальность основных исполнительских принципов романтического форте- пианного искусства подтверждается преемственностью в области исполнительских приёмов. Одним из учеников Листа был Павел Августович Пабст, преподававший с 1878 года в Московской консерватории. В свою очередь, в Московской консерватории его учеником был Н. К. Мет-нер – выдающийся композитор и пианист, позже – профессор Московской консерватории. Преемственность Метнера по отношению к Листу в педагогических указаниях может быть прослежена в силу того обстоятельства, что Метнер имел обыкновение вести записи своих мыслей во время занятий (композиция, игра на фортепиано) [13]. Специфика концертных выступлений, проработка отдельных элементов исполнительства на фортепиано, упражнения (которые пианист должен делать каждый день), подготовка к записи – вот неполный перечень различных сторон работы пианиста, о которых вдумчиво и содержательно повествуют нам записи Метнера. Так же как и Лист, Метнер с удивительно эмоциональной окраской раскрывает основные указания, касающиеся свободы пианистического аппарата при исполнении крупной техники. В частности, о свободе рук мы читаем у него следующие строки: «Рука должна во время работы испытывать физическое удовольствие и удобство, так же как слух должен испытывать всё время эстетическое наслаждение» [12, с.21], «Опускать плечи, свободное дыхание! Опускать нутро, поменьше следить за пальцами! Поменьше акцентов, толчков и вообще всякой механической энергии. Никогда и ничего не форсировать! Давать то, что даётся!» [12, с. 35]. Важна не только механика инструмента, но и понимание собственной механики пианиста, поэтому далее, следуя основным принципам исполнительского искусства игры на фортепиано, Метнер отдельное внимание уделяет локтям и кистям рук: «Локти отражают уже менее широкие линии движений, чем корпус, а кисти ещё меньше. Но всё же это линии, то есть группы нот, а не отдельные ноты, движения которых отражаются лишь в пальцах, то есть в самом меньшем и потому самом подвижном члене всего пианистического аппарата» [12, с. 46]. Здесь прослеживается то направление биомеханического действия, которое начинается с проработки высокоамплитудных движений, начиная с корпуса, плеч и далее к локтям и кистям рук. Это позволяет, по словам Метнера, «нанизывать как можно больше нот на одно движение». При этом особое внимание уделяется развитию тех мускулов, благодаря которым палец руки является не инициатором, а проводником удара. Интересной аналогией в данной связи является понятие «палец-проводник» в китайских (не будем уточнять) единоборствах, в которых эффективность пальца-проводника (ударного) обусловлена специфической техникой, сопряжённой с известными мистическими представлениями о пяти стихиях. Возможно, в западной культуре в дальнейшем может появиться подобная философия, но в данный момент для каких-либо редукций мы не видим серьёзного основания. Как пример такого технического приёма, когда палец является лишь проводником более крупного движения, Метнер упоминает другого выдающегося русского композитора и пианиста С. В. Рахманинова: «Техника Рахманинова, его энергия, сила, быстрота и чёткость основаны на вытряхивании движения изнутри – он никогда не нудит своих пальцев» [12, с. 46]. Далее, во время исполнения, независимо от того, играет пианист пиано или форте (медленно или быстро), положение свободной руки должно оставаться неизменным. Со стороны, разумеется, не должно быть никаких «особых» раскачек, которые публикой интуитивно воспринимаются как опошливание высокого искусства. Метнер советует учить октавы по первому пальцу. При этом руки должны быть опущены ниже обычного положения. В двойных нотах так называемые внутренние пальцы – отпустить на свободу. Что касается трелей, то учить их необходимо триолями. Скачки берутся плавно, не допускаются никакие толчки.
Таким образом, заметки Метнера содержат ёмкие, как «ключи», лаконичные высказывания, но тем не менее заставляющие нас задумываться о многих содержащихся в этих «ключах» практических знаниях исполнительского мастерства. Можно сказать, основным кредо, квинтэссенцией такого подхода является высказывание: «Долой всякое напряжение!», «Играть свободной силой как ff , так и pp , как медленно, так и быстро» [12, с. 54].
Исполнение музыки в духе основных принципов романтического исполнительского искусства должно превратиться в процесс, в результате которого у слушателя сложится прежде всего цельное художественное впечатление, гармонично сочетающее мысли, идеи композитора. Понимание и переживание художественного замысла ро- мантического музыкального произведения способно подарить нам то высокое чувство единения с идеалами – Истиной, Красотой, Гармонией, которое по силе своей не уступает катарсическому. Ведь чувство трансцендентности, выхода за рамки обыденного сознания способно стать тем основанием и опорой в повседневной обыденной жизни, которые делают нашу жизнь качественно лучше. Но для исполнения столь высокой миссии романтической музыки необходимым условием является то, чтобы технические трудности не мешали исполнительскому процессу. Это понимали и уделяли ему самое непосредственное внимание такие художники, как Ф. Лист и Н. К. Метнер, – по праву почитаемые нами как подвижники служения Правде и Красоте в искусстве. В заключение о мессианской роли музыки, особенно ярко проявившейся в эпоху романтизма, скажем словами Макса Генделя, известного христианского мистика, предвосхищавшего будущее в своих пророчествах: «Музыка будет основным фактором в осуществлении этого [духовного развития], ибо на крыльях музыки гармоничная душа может лететь к самому трону Божьему, чего обыкновенный интеллект достичь не может» [3].
Список литературы Исполнительская свобода в контексте романтического мироощущения: от Ф. Листа к Н. К. Метнеру
- Буасье А. Уроки Листа / [пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Н. П. Корыхаловой]. Санкт-Петербург: Композитор, 2013. 73 с.
- Варламов Д. И., Виноградова Е. С. Теоретические и методологические основы исследования исполнительской школы в музыкальном искусстве // Фундаментальные исследования. 2013. № 11-7. С. 1407-1411.
- Гендель М. Космогоническая концепция: Основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию: пер. с ориг. англ. изд. 1911 г. / [пер. с англ. и ред. - Элеонора Полтинникова-Шифрин; общ. ред., примеч., коммент. и прил. - Авраам Шифрин]. Израиль: Эзотеризм и парапсихология, 1984. 375 с.
- Досократики. Доэлеатовский и элеатовский периоды / пер. с древнегреч. А. Маковельского. Минск: Харвест, 1999. 784 с. (Классическая философская мысль)
- Желнов В. М. Эпистемология в конце XX века (основные парадигмы: закономерности становления и эволюции): автореферат дис. на соиск. учён. степ. кандидата философских наук: 09.00.01 / Желнов Василий Маркович; МГУ имени М. В. Ломоносова. Москва, 1999. 26 с.