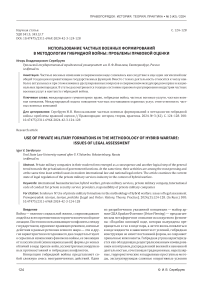Использование частных военных формирований в методологии гибридной войны: проблемы правовой оценки
Автор: Серебруев И.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовно-правовая охрана военной безопасности государства
Статья в выпуске: 3 (42), 2024 года.
Бесплатный доступ
Частные военные компании в современном виде сложились как следствие и еще один логический шаг общей тенденции к приватизации государственных функций. Вместе с тем их деятельность относится к числу наиболее актуальных и при этом наименее урегулированных вопросов в современном международном праве и национальных правопорядках. В статье рассматривается текущее состояние правового регулирования индустрии частных военных услуг в контексте гибридной войны.
Международное гуманитарное право, гибридная война, частные военные услуги, частная военная компания, международный кодекс поведения частных поставщиков охранных услуг, ответственность частных военных компаний
Короткий адрес: https://sciup.org/14131472
IDR: 14131472 | УДК: 341.3, | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-42-3-124-128
Текст научной статьи Использование частных военных формирований в методологии гибридной войны: проблемы правовой оценки
Война — явление социальной жизни, сопровождавшее людей на всем протяжении истории человеческой цивилизации. Постоянно вспыхивающие конфликты между государствами, крушение правящих режимов, военные действия в разных регионах земного шара — эти и другие характеристики сегодняшнего дня свидетельствуют о серьезных изменениях феномена войны, ее эволюции от классической (конвенциональной) формы до новых обличий в виде прокси-войн, ассиметричных вооруженных противостояний и гибридных конфликтов.
Концепция гибридной войны представляет собой сложную смесь неограниченных действий. Один из разработчиков указанной концепции — майор армии США Брайан Флеминг (Brian Fleming) — предлагает весьма метафоричное описание исследуемого феномена: «Подобно кипящей воде, которая вынуждена превращаться в газ в виде пара, а затем вновь появляться в виде жидкости в зависимости от условий, гибридная конструкция не имеет постоянной формы, но сохраняет привычные компоненты. Гибридная угроза характеризуется как обладающая децентрализованным командованием и контролем, распределенной военной и невоенной деятельностью, сочетающая традиционные, нерегулярные, террористические и подрывные преступные методы, эксплуатирующая сложные оперативные условия окружающей обстановки с намерением пожертвовать временем и пространством, чтобы достичь результата путем истощения» [1, с. 4–5].
В отечественной специальной литературе определение гибридной войны также весьма расплывчато. Как правило, ее определяют как «комплексное применение различных методов (не только военного, но и экономического, социального, политического характера) воздействия на противника в рамках межгосударственного противоборства» [2, с. 2].
В правовом поле термин «гибридная война», очевидно являющийся политологическим и в этой связи не имеющим четких интерпретационных границ, на сегодняшний день формально не закреплен ни в международно-правовых документах, ни в национальных правопорядках. Как справедливо отмечает К. Л. Сазонова, «…в международно-правовом дискурсе гибридная война представляет собой „зонтичный“ термин, призванный обозначить различные способы воздействия на противника, находящиеся за пределами классического военно-силового противостояния. <…> Отечественная доктрина международного права предпочитает не оперировать им, исходя из того, что это политологическое, а не международно-правовое понятие» [3, с. 179].
В военно-политической практике среди средств невоенного характера, которые позволяют достигать геополитического превосходства, достаточно широко представлены институты оказания частных военных услуг. Таким образом, в международную повестку вошел феномен, получивший название «частная военная компания» (далее — ЧВК), который отражает не только актуальную правоприменительную практику в сфере военно-политического противоборства, но и потенциальные направления развития международного права.
Материал и методы
В статье использованы международные нормативные акты, регламентирующие вопросы деятельности частных военных компаний. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания — анализ и синтез, а также специально-юридические методы — формально-юридический и сравнительно-правовой.
Описание исследования
Анализ опыта современных международных конфликтов свидетельствует о том, что использование ЧВК стало неотъемлемым элементом планирования и осуществления практически любой военной операции, ведения вооруженных конфликтов, гибридных и асимметричных войн, цветных революций, ряда миротворческих миссий, а также постконфликтного урегулирования. Эффективность ЧВК как средства достижения ведущими мировыми державами широкого спектра геополитических целей в условиях многополярного мира подтверждается их участием практически во всех значимых вооруженных конфликтах за последние четверть века: на Балканах, Африканском континенте, Ближнем востоке, в некоторых регионах Латинской Америки, Юго-Восточной и Центральной Азии, Афганистане, Ираке, Ливии, Украине и Сирии.
Специфическими особенностями феномена ЧВК являются размытый правовой статус и полиаспектность правовой регламентации, заключающаяся в переплетении международных и национальных инструментов правового воздействия.
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует специализированный международный правовой акт, в котором бы в полной мере нашла отражение деятельность ЧВК. Следовательно, если мы признаем, что наемничество и деятельность ЧВК — разнопорядковые явления, не имеющие никаких точек соприкосновения, то получается, что правовой статус ЧВК не определен ввиду наличия пробелов в действующем законодательстве. Вместе с тем международные документы, в той или иной степени затрагивающие вопросы определения правового статуса ЧВК, все же есть.
В настоящее время наиболее известным международным актом, регулирующим деятельность ЧВК, является Документ Монтрё — итог так называемой «Швейцарской инициативы», совместно выдвинутой правительством Швейцарии и Международным комитетом Красного Креста. Он был разработан при участии правительственных экспертов из Австралии, Австрии, Анголы, Афганистана, Германии, Ирака, Канады, Китая, Польши, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Сьерра-Леоне, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Африки с целью содействия соблюдению международного гуманитарного права и прав человека, применительно к ЧВК, действующим в ситуациях конфликта.
Документ Монтрё состоит из двух частей, объединяющих порядка 70 рекомендаций по регулированию деятельности ЧВК в зоне вооруженных конфликтов и контролю за соблюдением ими норм международного права. Несмотря на то, что документ подписали лишь разрабатывавшие его государства, его появление следует рассматривать как важный шаг на пути к законодательному определению и легальному закреплению статуса ЧВК.
Во-первых, в Документе Монтрё закреплено определение понятия ЧВК как «частных предпринимательских субъектов, которые оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Военные и охранные услуги включают, в частности, вооруженную охрану и защиту людей и объектов, например транспортных колонн, зданий и других мест; техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под стражей заключенных; и консультирование или подготовку местных военнослужащих и охран-ников»1. Примечательно, что схожие по сути определения в дальнейшем нашли отражение в проекте Конвенции о частных военных и охранных компаниях, находящемся на рассмотрении СПЧ ООН, в рамках которого за термином частная военная и/или охранная компания стоит «корпоративное образование, представляющее на компенсационной основе военные и/или охранные услуги, обеспечиваемые физическими и/или юридическими лицами» [4, с. 113], а также в Международном кодексе поведения частных поставщиков охранных услуг, где под частными поставщиками услуг в области безопасности понимаются «любые компании, коммерческая деятельность которых включает оказание охранных услуг от своего имени либо от имени другого лица, независимо от того, как такая компания себя характеризует»1.
Во-вторых, в Документе Монтрё дана классификация государств в контексте деятельности ЧВК. Так, в первую группу входят «государства-контрагенты» — государства, которые непосредственно заключают с ЧВК контракты об оказании услуг, в том числе в соответствующих случаях, когда такие ЧВК заключают субконтракты с другими ЧВК (подп. «c» п. 9 Предисловия). Вторую группу образуют «государства территориальной юрисдикции» — государства, на территории которых действуют ЧВК (подп. «d» п. 9 Предисловия). Третью группу составляют «государства происхождения» — государства национальной принадлежности ЧВК. В данном случае речь идет о государствах, на территории которых ЧВК зарегистрированы или инкорпорированы. Примечателен тот факт, что в случае, если государство, в котором ЧВК инкорпорирована, не является государством, где находится ее головное подразделение, то «государством происхождения» будет являться то государство, на территории которого dejure находится ее головное подразделение (подп. «e» п. 9 Предисловия)2.
Несмотря на многочисленные достоинства, Документ Монтрё имеет один существенный недостаток — декларативный характер. Это обусловлено тем, что указанный документ является своеобразным «эскизом» международно-правовой компоненты механизма регулирования деятельности ЧВК, а его положения в настоящее время не являются обязательными и носят рекомендательный характер.
Следующим международным актом, играющим важную роль в регулировании деятельности ЧВК, является упомянутый ранее Международный кодекс поведения частных поставщиков охранных услуг (далее — Кодекс), который на сегодняшний день подписали более 700 компаний.
Данный документ обобщает существующие стандарты в области защиты прав человека и указывает процедуры их применения в деятельности ЧВК и их сотрудников, а также прописывает принципы, которыми должны руководствоваться компании для улучшения контроля за работой их сотрудников в условиях вооруженного конфликта. Отметим ряд позитивных наработок, имеющих, по нашему мнению, высокий потенциал в разрешении обозначенного вопроса.
Компании, подписавшие Кодекс, во-первых, принимают на себя обязательство «создать в течение 18 месяцев механизмы внешнего контроля, которые должны осуществлять сертификацию компании, аудит и мониторинг деятельности в районах военных конфликтов, а также принимать соответствующие меры в случае нарушения Кодекса».
Во-вторых, обязаны «разработать внутренние процедуры выполнения требований в соответствии с принципами Кодекса и стандартами, вытекающими из него, и/или представить их; после создания механизма управления и надзора получить сертификат и на постоянной основе проводить независимые аудиторские проверки посредством этого механизма; обеспечить соблюдение Кодекса в качестве составной части контрактных соглашений клиентами, персоналом, субподрядчиками или другими сторонами, предоставляющими охранные услуги по договорам с ними; придерживаться настоящего Кодекса даже в тех случаях, когда он не включен в контрактное соглашение с клиентом».
В-третьих, разделяют принцип должной осмотрительности в процессе отбора персонала, согласно которому «нанимаемый персонал должен соответствовать определенным правилам: не иметь судимости, не иметь увольнений в результате проступка, порочащего его честь и достоинство, не быть замеченным в таком поведении, которое бы дало разумное основание сомневаться в их пригодности для ношения оружия».
В-четвертых, должны обеспечивать «безопасное хранение оружия, контроль за выдачей, регистрацию того, кому и когда выдается оружие, идентификацию и учет всех боеприпасов»3.
Заключение и выводы
Резюмируя, следует отметить, что с одной стороны выполнение норм Кодекса — обязательное условие для заключения любых контрактов по предоставлению частных военных услуг на международном уровне. С другой стороны, Кодекс в соответствии с п. 14 главы «D. Общие положения» «…не возлагает никаких юридических обязательств и никакой юридической ответственности на компании, подписавшие Кодекс, помимо тех, которые уже существуют в соответствии с национальным законодательством или международным правом»4. Из чего следует, что Международный кодекс поведения частных поставщиков охранных услуг, равно как и Документ Монтрё, является актом «мягкого права», не имеет обязательной юридической силы и носит исключительно рекомендательный характер.
Указанная проблема усугубляется многочисленными фактами нарушений сотрудниками ЧВК незыблемых прав и свобод человека и гражданина. В качестве примеров можно привести применение сотрудниками ЧВК «CACI» пыток к заключенным в тюрьме «Абу-Грейб» [5, с. 65], массовое убийство сотрудниками ЧВК «Blackwater» (на данный момент — Academi) в сентябре 2007 года 17 мирных жителей на площади Нисур в столице Ирака, попытку захвата президента Либерии сотрудниками ЧВК «Northbridge»1. В этой связи вопрос о привлечении к юридической ответственности «псов войны» встает все более остро.
Говоря об уголовно-правовой оценке деятельности специалистов ЧВК, большинство исследователей (как отечественных, так и зарубежных), так или иначе, пытаются уместить указанное явление в «прокрустово ложе» норм, предусматривающих ответственность за наемничество. Однако является ли такой подход корректным? Как мы отмечали ранее, нет.
Основными нормативными правовыми актами, определяющими статус наемника, являются Конвенция 1977 г. Организации африканского единства о ликвидации наемничества в Африке2, Международная конвенция ООН 1989 г. о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников3, Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Статья 47(2) Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года определяет наемника как любое лицо, которое:
-
а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте;
-
b) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях;
-
с) принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны;
-
d) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;
-
e) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте;
-
f) не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.
Примечательно, что для того, чтобы признать лицо наемником, оно должно соответствовать всем шести условиям. Не вдаваясь в подробный обзор каждого из условий, сформулированных в статье 47(2), отметим, что условие, установленное пунктом «е», полностью лишает определение наемника и статью 47(2) в целом какого бы то ни было практического или юридического значения, поскольку исключает из определения любое лицо, принадлежащее к личному составу вооруженных сил государства, являющегося стороной в конфликте. Таким образом, просто включив наемников в состав своих вооруженных сил, государство, желающее их использовать, но так, чтобы они не попадали в орбиту действия правовых норм, предусматривающих ответственность за наемничество, может это сделать, даже если все остальные условия удовлетворены. Опыт современных вооруженных конфликтов свидетельствует о том, что такая практика стала весьма распространенным явлением.
Список литературы Использование частных военных формирований в методологии гибридной войны: проблемы правовой оценки
- Fleming B. P. The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational Art. School of Advanced Military Studies. United States Army, 2011. 69 p. URL: https://indianstrategicknowledgeonline.com/web/2753.pdf.
- Викулов С. Ф., Хрусталев Е. Ю. Методологические основы и специфика военно-экономического анализа // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 7 (358). С. 2-11. EDN: RVCBZX
- Сазонова К. Л. "Гибридная война": международно-правовое измерение // Право: журнал Высшей школы экономики. 2017. № 4. С. 177-187. EDN: YNTQCG
- Пермяков Г. С. Частные военные и охранные компании: необходимость международно-правового регулирования деятельности // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2023. № 2. с. 110-118. 10.34076/ 22196838_2022_2_110. DOI: 10.34076/22196838_2022_2_110 EDN: ELKQPO
- Камерон Л. Частные военные компании: их статус по международному гуманитарному праву и воздействие МГП на регулирование их деятельности // Международный журнал Красного Креста. 2006. № 863. С. 63-95.