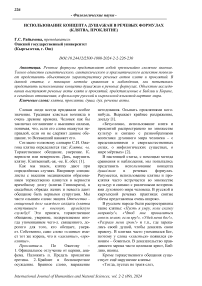Использование концепта душа\жан в речевых формулах (клятва, проклятие)
Автор: Райымова Г.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2-2 (89), 2024 года.
Бесплатный доступ
Речевые формулы представляют собой чрезвычайно сложное явление. Только единство семантического, синтаксического и прагматического аспектов позволяет представить объективную характеристику речевых актов клятв и проклятий. В данной статье, с помощью метода сравнения и наблюдения, мы попытались представить использование концепта душа/жан в речевых формулах. Объектом исследования выступают речевые акты клятв и проклятий, представленные в Библии и Коране, в семейных отношениях, в фольклоре русской и кыргызской языковой картине мира.
Клятва, проклятие, душа, дух, речевые акты
Короткий адрес: https://sciup.org/170203340
IDR: 170203340 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-2-2-226-230
Текст научной статьи Использование концепта душа\жан в речевых формулах (клятва, проклятие)
Словам люди всегда придавали особое значение. Традиция клясться возникла в очень древние времена. Человек как бы заключал соглашение с высшими силами, понимая, что, если его слова окажутся неправдой, если он не сдержит данное обещание, то Всевышний накажет его.
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова клятва определяется так: Клятва, -ы. Торжественное обещание, уверение. К. верности или неверности. Дать, нарушить клятву. Клятвенный,-ая, -ое. К. обет. [1].
Как мы знаем, клятву дают при определённых случаях. Например: специалисты с высшим медицинским образованием торжественно клянутся в верности врачебному долгу (клятва Гиппократа), в свадебных обрядах жених и невеста дают обещание быть верными супругами. Мы часто слышим слова: защита Отечества – священный долг каждого солдата (клятва вступившего в военную, армейскую службу)! Это присяга, торжественное обещание, уверение, подкрепляемое иногда упоминанием чего-л. священного, дорогого для того, кто обещает, уверяет. Собственно, само слово « клятва » имеет тот же корень, что и « заклятие », « проклятие ».
Проклятие-я. По Ожегову -1. Официальное отлучение от церкви, анафема. Наложить п. Предать проклятию еретика. 2. Крайнее и бесповоротное осуждение. Бранное слово, выражение негодования. Осыпать проклятиями кого-нибудь. Выражает крайнее раздражение, досаду [1].
«Безусловно, использование клятв и проклятий распространено во множестве культур и связано с разнообразными аспектами духовного мира человека - с представлениями о сверхъестественных силах, о мифологических существах, о мире мёртвых» [2].
В настоящей статье, с помощью метода сравнения и наблюдения, мы попытались представить использование концепта душа/жан в речевых формулах. Разумеется, использование клятвы и проклятия часто встречается во множестве культур и связано с различными воззрениями духовного мира человека. В русской и кыргызской речевых практиках святые обеты представлены очень широко.
В русском народе были распространены такие клятвы: «Пусть я умру, коли скажу неправду!», «Чтоб мне провалиться сквозь землю, если вру!», «Убей меня бог!», «Разрази меня гром!» и т.п., где зарекались своей душой, чтобы доказать свою правоту. В клятвах часто упоминался Бог, поэтому у слова « клясться » появился синоним - божиться. В доказательство правдивости зарока часто целовали крест, Библию, иконы.
Кроме торжественного обещания существует ещё нарушение клятвы:
«Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнёс:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь,
Прижать с тоской к груди другой, Хоть незнакомой, но родной» [3].
В душе Мцыри, героя М. Лермонтова, возникает мощный порыв, заставляющий решиться на побег. Но его, измождённого и истощённого, возвращают в обитель. И лишь одно тяготит его сердце - клятвопреступление. Он не смог выполнить клятву, данную самим себе. По крайней мере, сам герой считает так.
Также в кыргызской картине мира в очень важных и тонких вопросах возникала необходимость приносить заверование: «Жалган айтсам жаным чыксын!», «Ку-дай жанымы алсын!», «Куранды кармап айтам», «Нан кармап айтам», «Карангы тунден чыкпай калайын!» и держали в руках Коран (священная книга мусульман) или хлеб. В таких случаях они служили подкреплением честности данного зарока. Разумеется, что тюрки, а среди них и кыргызский народ, поклонялись божеству Те-ниру (Небу) и потому в их лексиконе можно и в настоящее время встретить такого рода присяганий, где намекается о душе : «Тецир урсун! » (Пусть покарает меня Небо!), «Тебесу ачык кок урсун!» (Пусть покарает меня бездонное Небо), «Асман mYШYn кетсин!» (Пусть Небо упадает на меня).
По нашему мнению, в обычных условиях, при отсутствии крайней необходимости не следует прибегать к клятвам. Необходимо оберегать свой язык от привычки постоянно клясться, основываясь всегда на простоте и честности. Однако иногда и в наше время порой можно услышать, как люди клянутся своей жизнью и здоровьем, а то и жизнью и здоровьем своих близких и детей, не задумываясь над тем, что это отнюдь не праздные слова, брошенные на ветер: «Клянусь здоровьем сына!», «Клянусь жизнью родителей!» или же «Балам-дын жанын жейин!», «Ата-энем өлүп кал-сын!».
Как упоминалось выше, проклятие -словесная формула, содержащая пожелание бед в адрес кого - или чего-либо, ругательства, отчаянное, безвозвратное осуж- дение, означающее полный разрыв отношений. Словесное оскорбление может реализовываться по-разному: принимать различные формы и характеризоваться определенной степенью оскорбительности и неприличности. Выражения со значением проклятия являются яркими образцами в бытовой речи и распространены в бранных, матёрных формах общения. С речевыми актами проклятия можно столкнуться в библейских и коранических трактатах, в фольклоре, в народных поверьях, в семейных и общебытовых отношениях.
Разряд библейских осуждений является самой многочисленной. В этих материалах проклятие определяется как означенное слово, противоположное слову « благословение ». Под проклятием в библейском восприятии очевидно «лишение благословения и осуждение на бедствия». Проклятия здесь относятся в первую очередь не к отчуждению или физическому отдалению от Бога, а к вызыванию зла и несчастий посредством проклятия и фигурирует как наказание. Произнесённое проклятие в библейской интерпретации подразумевает нечто большее, нежели просто пожелание чего-то плохого в жизни человека. Что-то ужасное должно было случиться с человеком, по отношению к которому было высказано проклятие.
Рассмотрим следующий пример: в то время Иисус Новин поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон. Как мы видим, здесь подразумевается мысль, что будет проклята душа того, кто осмелится построить город. Иисус Навин не сообщает о совершенном ранее проклятии, но совершает акт проклятия сам. Это как бы угроза со стороны высших сил, которая должна предостеречь человека от определенных поступков [4].
В исламском мировоззрении психологические расстройства и другие проблемы возникают, когда потребности души не удовлетворяются в полной мере. Чтобы избавить сердце от таких серьезных проблем, нужно исповедовать правильную веру и ислам. Коран повелевает: «Билип койгула, Алланы такай эстеген жүрөк гана бейпил табат» [5]. Под словом
« жүрөк» воспринимается « жан» . К сожалению, многие люди сегодня стремятся удовлетворить материальные потребности. На самом деле тело человека временно, а его душа вечна.
Русские фольклорные тексты нередко строятся на мотиве сбывшегося проклятия: наказанные заболевают, умирают или превращаются в птиц, зверей, деревья, травы и пр. Многие сказки и предания повествуют о судьбе проклятых, заклятых и их чудесном освобождении. Так, например, в русской народной литературе часто встречается такой персонаж, как русалка . Русалки - людские дочери, проклятые родителями еще в материнской утробе, умершие некрещеными. В народных поверьях они представляются проклятыми душами.
У Тургенева в рассказе «Бежин луг» мы находим следующий эпизод: «Пошел он (плотник Гаврила) раз в лес по орехи, да и заблудился, дороги найти не может, а уж ночь на дворе. Вот, и присел он под дерево. Задремал и слышит вдруг: кто-то его зовет. Смотрит - никого. Он опять задремал, - опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется. А месяц-то светил сильно, все видно. Вот, зовет она его, и такая сама вся светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь. Гаврила-то плотник так и обмер, а она знай, хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было, и встал, послушался было русалки, да, знать, Господь его надоумил: положил-таки на себя крест. А уж как ему было трудно крест-то класть, рука просто каменная, не ворочается. Как положил он крест, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет. Плачет она, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля». Чего ты, лесное зелье, плачешь?». «Не креститься бы тебе, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она пропала, а Гаврила с тех пор все невеселый ходит» [6]. Здесь выражение «убивайся же, и ты до конца дней» представляет собой понятие о душе, страдающей до конца жизни.
В кыргызском фольклоре проклятия можно обнаружить даже в составе великого эпоса «Манас». Здесь можно выявить заклятия, ниспосланные от имени арбаков (духов, умерших душ). Очень часто кыр-гызы духом предков проклинали своих врагов, недоброжелателей, людей совершивших плохой поступок, употребляя следующие выражения: «Арбак урсун! » (Пусть покарает дух умершего), такое содержание проклятия мы встречаем в эпосе, где есть следующая модель: «Манастын арбагы урсун!» (Пусть покарает дух Манаса). Проклятие, произнесенное от имени духа предков, пожалуй, самое страшное и опасное в миропонимании кыргыза. Вот почему проклятие, произнесенное китайским ханом Эсенканом по отношению к Алмамбету, предавшего свой народ, звучит особенно гневно: « Арбак урган качкын!» (Пусть дух предков покарает беглеца). Грознее этого проклятия ничего не может быть [7].
В кыргызском фольклоре существует легенда, что в давние времена волки причиняли большой вред животным и людям, отчего имя волка было названо при проклятии. Поэтому люди судили безбожника так: «Жаныц карышкырдай карышып калсын!» (Пусть душа станет сухожилием волка!).
Как русской, так и кыргызской национальной картине мира характерны родовые заклинания, которые приводят к наказанию несколько поколений подряд.
Суровым и страшным считалось проклятие и такого типа: « Ата-бабаңын арба-гы урсун! » (Пусть дух предков покарает тебя!), «Жети атаңын боорун же!» (Съесть тебе печень своих семи предков!), « Туку-муц соолгур, жатыныц куурагыр !» (Чтоб засохло семя твое, высохла утроба твоя)!». Души предков в кыргызском мировосприятии особенно почитались, а печень, семя, утроба считались средоточием души человека. По их поверьям могло наслать несчастье до седьмого колена проклинаемого и, если порчу вовремя не снять, не избавиться от него, оно перейдет по наследству.
Особую же опасность представляют собой бранные слова, произнесённые сгоряча родителями. В русском мировосприятии это объясняется тем, что если мать использует проклятие, значит несчастью быть. В этом отношении любопытен следующий текст: «Где-то тут в Бабаево напился молодой парень, домой идти не мог, на берег лёг. А мать, узнав, что сын лежит на берегу, пришла его будить: «Пойдём домой!». Девятнадцатилетний парень стал маму непристойными словами посылать: «Иди на …! Высплюсь, встану и приду» . Она в сердцах ответила: «Лежи, чтоб водяной душу твою подхватил!» . Спустя время пришла, а его нет. Через неделю нашли косточки» [8]. Здесь можно заметить, что нецензурно выраженные сыном слова, не имеют никаких последствий, кроме ответа матери, играющего ключевую роль в развитии сюжета.
В кыргызском мировосприятии ненормативная лексика, используемая родителями в отношении детей, в особенности отцом, считается самой суровой карой: «Атанын сөзү ок…!» (Проклятие отца – пуля!). Матери могут использовать бранные слова при случаях, когда ребёнок не слушается, капризничает или обманывает: «Жаның чыккыр!», «Жаныңы жегир! Чынынды айт!» (Чтоб душа твоя вышла вон! Чтоб ты съел свою душу!).
Также у представителей кыргызского этноса нередко встречаются такие ругательства, как: «Өпкө-жүрөгүн үзул- гүр!» (Разорваться твоему сердцу и лёгким!), «Жети өмүрүң жерге киргир!» (Испытать тебе чувство глубоко позора, стыда!). Слова «лёгкие» (өпкө), «жүрөк» (сердце), «өмүр» (жизнь) означают понятие «жан», и являются ценностными в кыргызском миропознании.
Естественно, мать не желает детям ничего плохого. Мы думаем, что цель злословия: отпугнуть злые силы от ребёнка, призвать к повиновению, чинопочитанию родителей и взрослых. Но нужно отметить, что оскорбительный отзыв родителей касательно ребёнка, в особенности матери, запрещается и является нарушением этикета и в русских и кыргызских народных традициях.
В заключении мы приходим к выводу, что проклятие – как единица языка представляет собой самостоятельное высказывание в составе речевого акта. Выражение словами кары, наказания встречаются в Библии и Коране, нецензурная брань – в устном народном творчестве, в семейных отношениях и т.д. Как мы можем наблюдать, клятвам и проклятиям кыргызского народа свойственны поэтическая образность, эмоциональная окрашенность и риторичность, за счёт наличия таких выражений, как: «Арбак урсун!" », «Жаның карышкырдай карышып калсын!», «Өпкө-жүрөгүн үзулгүр!», означающие концепт «жан», какие не часто встречаются у представителей русской нации.
Список литературы Использование концепта душа\жан в речевых формулах (клятва, проклятие)
- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - Москва: Изд. Мир и образование, 2020. - 736 с.
- Абраменко О. Клятвы и проклятия в речевой практике русских цыган. 2006. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ruthenia.ru/apr/textes/klubkov60/abramenko.html.
- Лермонтов М.Ю. Мцыри. Поэмы. Стихотворения. - Москва, Эксмо, 2023. - 448 с.
- Крюкова И.В. Речевой акт проклятия и лексико-грамматические средства его осуществления. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. канд. филол. наук. - Ставрополь, 2011. EDN: QFGUGV
- Коран. Сура 13 "Ар-Раад" (Гром), аят 28. Namaz.Today. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://namaz.today-al-quran›surah-13-ayah-28.
- Тургенев И. С. Записки охотника. Текст произведения. Источник: И.С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Т. 3. - М.: Наука, 1979.
- Садыков Б. Д. Функции фольклорных жанров в художественном в составе эпоса "Манас" (кошок, керээз, арман, алкыш, каргыш - причитания, завещания, сожаления, благопожелания, проклятия). Автореф. дисс… канд. филолог. наук. - Алма-Ата, 1992. - 25 с. EDN: ZLKLRP
- Самойлова, Е.Е. Проклятия как форма конвенционального поведения / Е.Е. Самойлова // Ruthenia: сайт Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/samoylova3.htm.