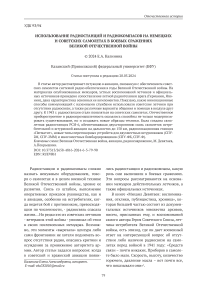Использование радиостанций и радиокомпасов на немецких и советских самолетах в боевых сражениях Великой Отечественной войны
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает ситуацию в авиации, связанную с обеспечением советских самолетов системой радио обеспечения годы Великой Отечественной войны. На материалах опубликованных мемуаров, устных воспоминаний летчиков и официальных источников проведено сопоставление летной радиотехники врага (Германии, Японии), дана характеристика основных ее компонентов. Показано, какие инновационные способы коммуникаций с наземными службами использовали советские летчики при отсутствии радиосвязи, а также различные варианты общения и помощи в воздухе друг другу. К 1943 г. радиостанции стали появляться на советских самолетах. Отечественное приборостроение и радиопромышленность оказались способны не только модернизировать существовавшие, но и создавать новые образцы техники. Была создана самолетная радиостанция РСИ-6, обеспечивавшая двухстороннюю связь самолетов истребительной и штурмовой авиации на дальностях до 150 км, радиолокационная станция «Пегматит», новые типы переговорных устройств для двухместных штурмовиков (СПУ-2М, СПУ-2ММ) и многоместных бомбардировщиков (СПУ-ФБ, СПУ-Ф).
Великая отечественная война, авиация, радиоснаряжение, м. девятаев, а.покрышкин
Короткий адрес: https://sciup.org/148330836
IDR: 148330836 | УДК: 93/94 | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-3-79-90
Текст научной статьи Использование радиостанций и радиокомпасов на немецких и советских самолетах в боевых сражениях Великой Отечественной войны
EDN: RUEVRH
Радиостанции и радиокомпасы сложно назвать ненужным оборудованием, говоря о самолетах и в целом военной технике Великой Отечественной войны, уровне ее развития. Связь со штабом, выполнение оперативных приказов руководства, как и в авиации, особенно на истребителях, когда ведется бой с противником, превосходящим по численности, - радиосвязь спасала жизни… Но редко кто из советских летчиков - ветеранов этой войны - упоминал об этом в своих послевоенных мемуарах. Возможно, эти моменты «вырезала» цензура либо сами фронтовики не хотели поднимать вопрос отсутствия радио, опасаясь критики и осуждения за принижение авторитета армии. Автор статьи задался вопросом: когда в советской и вражеской авиации появи- Калинина Елена Александровна, аспирант.
лись радиостанции и радиокомпасы, какую роль они выполняли в боевых сражениях. Эти вопросы рассматриваются на основании мемуаров действительных летчиков, а также официальных источниках.
В книге «Михаил Девятаев: воспоминания, отклики, публицистика, хроника», которая большей частью состоит из документальных источников множества архивов, писем, присланных ему, и воспоминаний самого автора Героя Советского Союза, летчика-истребителя Великой Отечественной войны, есть эпизод, где он дает косвенный ответ на интересующий вопрос об отсутствии либо наличии радиосвязи на самолетах перед войной в 1941 году: «Средств связи – почти никаких. Приборов в самолете было мало. Скорость, высоту, количество горючего, давление масла – вот почти все, что показывали они»1.
Технические характеристики радио (вес от 10 до 20 кг) не заметить и не упомянуть сложно. Отсутствие упоминаний в мемуарах о радио - лишь косвенное подтверждение его отсутствия. Короткий, но более четкий ответ на этот вопрос звучит в интервью в 2002 г., которое оказалось последним, где М. Девятаев, рассказывая про первый воздушный бой 22 июня 1941 года, сказал: «А как воевать? Радио нет»2.
Когда радиостанции появились у противника? На немецких самолетах установка передаточных радиостанций началась еще с февраля 1915 года. Об этом сообщает в своих мемуарах Эрнст фон Хепнер, который в Первую мировую войну командовал объединенными воздушными силами Германии и Австро-Венгрии. К апрелю 1917 года, по его словам, «… в Германии были сконструированы приборы, дающие возможность летчику-наблюдателю не только передавать радиотелеграфные сигналы, но и принимать их. Артиллерийские летчики тем самым освобождались от необходимости прерывать свои наблюдения для того, чтобы следить за выкладываемыми у батарей полотнищами. Воздушное наблюдение обещало в дальнейшем давать артиллерии еще более оперативные и полные сведения. Установка новых радиоприборов и снабжение каждого авиаотряда 3-мя полевыми авиационными радиотелеграфными станциями производились постепенно, по мере их поступления в части. Итак, имелись: авиаотряды, авиаотряды (А) без двусторонней радиосвязи, авиаотряды (А) с двусторонней радиосвязью»3.
У российских летчиков такой аппаратуры в Первую Мировую войну не было, однако уже тогда был придуман метод знаков. Так, об этом, имея в виду 1920 год, писал генерал-майор в отставке Иван Константинович Спатарель: «В эти дни мы совершили несколько полетов с целью корректирования огня артиллерии. Из-за отсутствия радиопередатчиков корректировку передавали условными эволюциями самолета. Например, поворот вправо обозначал перелет, поворот влево - недолет и т.д. При всех недостатках этого метода, не позволявшего передавать величину отклонений разрывов, артиллеристы благодарили нас. С помощью летчиков они подавили несколько огневых точек врага»4.
Он же, чуть ранее, там же упоминает еще один знак: «Как условлено, делаю три покачивания с крыла на крыло»5.
Возможно, после 1920 года знаки дорабатывали и видоизменяли, однако они были обязательными для всей истребительной авиации и в первые годы войны успешно применялись6 (табл. 1).
Информацию о том, как обстояло дело с самолетами союзников Германии - японскими истребителями, находим у Арсения Ворожейкина (летчик-истребитель, лично cбивший 52 вражеских самолета) в книге «Истребители». Авторское сравнение японских и советских истребителей позволяет рассмотреть технические характеристики советских истребителей в 1939 году: «… японские истребители очень легкие, весят всего около 1300 килограммов, поэтому ма-невреннее наших, посоветовал облегчить И-16. В частности, порекомендовал снять с самолетов все кислородное оборудование, некоторые приборы, а также и радиооборудование. Правда, только на двух наших самолетах стояли приемники, но их сняли еще в Забайкалье. Радиооборудование снимали не потому, что недооценивали, и не потому, что оно громоздкое. Оно просто не работало и оказалось бесполезным грузом.
Кто знает, может быть, эта разумная в ту пору мера и затормозила внедрение радиосвязи в истребительной авиации»7.
Далее он упоминает про эволюции крыльями: «Отжимаю ручку и увеличиваю скорость в надежде догнать ведущего и покачиванием крыльев предупредить о нависшей опасности»8.
Советский ученый Борис Черток в первой книге «Ракеты и люди» отмечал, говоря про 1940 год, что «Наши самолеты, состоявшие на вооружении, в массе своей не имели никаких средств радиосвязи ни между собой, ни с землей»9.
Таблица 1. Метод знаков, применяемых на советских самолетах
|
Номер |
Значение сигнала |
Визуальное выполнение сигнала |
|
сигнал № 1 |
«Противник в направлении» |
Покачивание с крыла на крыло, затем разворот или очередь в направлении на противника |
|
сигнал № 2 |
«Атакуем все» |
Быстрое покачивание с крыла на крыло и личный пример командира |
|
сигнал № 3 |
«Атакует ведущая пара (звено)» |
Быстрое покачивание с крыла на крыло, затем горка |
|
сигнал № 4 |
«Атакуют замыкающие пары (звенья)» |
Две горки |
|
сигнал № 5 |
«Выхожу из строя, заместитель примет командование» |
Покачивание с крыла на крыло, затем пикирование с уходом под строй |
|
сигнал № 6 |
«Действуйте самостоятельно» |
Покачивание с крыла на крыло, затем змейка в горизонтальной плоскости |
|
сигнал № 7 |
«Сбор» |
Глубокое многократное покачивание с крыла на крыло |
Для полной картины того, в каких условиях оказалась РККА и, в частности, военновоздушные силы РККА (далее ВВС) в первый день Великой Отечественной войны, необходимо охарактеризовать удар, который получили наши ВВС 22 июня 1941 года. По официальным данным, опубликованным в 1961 году, первому удару подверглись 66 приграничных советских аэродромов, было уничтожено 1200 самолетов10.
На этих 66 аэродромах базировалось 65% авиации западных приграничных округов. «Особенно большой урон понесла авиация Западного и Киевского особых военных округов, где немецко-фашистской авиации в первый день войны удалось уничтожить и повредить 1015 самолетов. 9-я смешанная авиационная дивизия ВВС Западного особого военного округа из 409 имеющихся к началу войны самолетов потеряла 347, 10-я смешанная авиадивизия потеряла 180 самолетов из 231 и 11-я смешанная авиа- дивизия – 127 самолетов из 199. На второй день войны эти три авиационные дивизии, находившиеся в первом эшелоне, оказались небоеспособными и были выведены на пе-реформирование»11.
Сколько же всего было самолетов у ВВС РККА на начало войны? В приграничных военных округах на конец 1940 года имелось (включая тяжелые и средние бомбардировщики, истребители, разведывательные самолеты и учебно-тренировочные) – 8 209 самолетов. Также следует добавить, что «… всего с 1938 г. по 22.06.1941 г. было выпущено 22 685 боевых самолетов… Хотя из этих новых машин большую часть составляли самолеты, разработанные в конце 1930-х годов, они отнюдь не были ни на что негодным хламом»12. Почти 10 тысяч из них были бомбардировщиками, остальные – истребители.
На осуществление плана «Барбаросса» у противника было подготовлено 4980 бо- евых самолетов, в резерве находилось еще 400 самолетов. Но около 60% парка ВВС Германии составляли бомбардировщики. «Гитлеровские стратеги рассчитывали, что им удастся в первые дни войны так же, как это было в Польше и во Франции, внезапными массированными налетами бомбардировщиков на аэродромы уничтожить советскую авиацию. Поэтому они и уделили большое внимание развитию бомбардировочной авиации»13.
Авиация ВВС РККА, хотя ее автопарк на аэродромах понес потери в результате мощных одновременных бомбардировок противника 22 июня 1941 года, осталась вполне боеспособной, и она смогла в первый день войны дать отпор противнику: «За 22 июня 1941 г. советские летчики совершили около 6 тыс. боевых самолето-вылетов и уничтожили более 200 немецких самолетов»14.
Немецкие пилоты за этот день совершили 2272 самолето-вылета15.
За первые 18 дней войны для отражения нападения врага и поддержки своих сухопутных войск советская авиация произвела около 45 тыс. боевых самолето-вылетов (ВВС Северного фронта - 10 тыс., Северо-Западного - более 8 тыс., ВВС Западного - около 7 тыс., ВВС Юго-Западного - более 10 тыс. и ВВС Южного фронта - более 5 тыс. и дальнебомбардировочная - более 2 тыс. самоле-то-вылетов»16.
Во второй книге Борис Черток пишет: «Идет война, дорог каждый день… радиосвязь в бою нужна не завтра, а сегодня, даже вчера. У нас уже есть истребители не хуже немецких, но радиосвязь отвратительная!»17.
Об оснащенности немецких самолетов, уже во время ВОВ, подробно сообщает в своей книге Николаус Белов «Я был адъютантом Гитлера». Он пишет про серийную модель «Ю-88»: «Серийную же модель придется использовать с имеющимися в настоящее время моторами и полным оснащением, то есть со всем необходимым вооружением и радиоаппаратурой, а потому летать она сможет со скоростью не более 500 км в час»18.
Упоминание об оснащенности радиоаппаратурой советской авиации к началу Великой Отечественной есть в мемуарах Александра Ивановича Шокина, который с 1941 г. по 1943 г. был главным инженером наркомата судостроительной промышленности, а с 1943 года – занимал должность начальника промышленного отдела Совета по радиолокации при ГКО СССР или третьего главного управления при Совете Министров СССР. Этот орган власти решал проблемы создания ракетной противовоздушной обороны и формировал кольцо ПВО вокруг Москвы. Он вспоминал: «Например, в Московском военном округе на 1 января 1940 г. радиостанции стояли на 43 самолетах-истребителях из 583. В 1942 г. командующий ВВС РККА отмечал в приказе, что 75% вылетов советской авиации делается без использования радиостанций». Он уточнял, что радиостанции если имелись, то на самолетах командиров эскадрилий, а основным видом связи в воздухе являлись сигнальные ракеты и покачивание крыльями»19.
Да и в целом на фронте со связью в 1941 г. ситуация была не из лучших: «На 1 августа фронту не хватало: 11 линейных батальонов, 13 телеграфно-строительных, 5 телеграфно-эксплуатационных и 26 кабельно-шестовых рот. Нет необходимости пояснять, что в таких условиях было очень трудно, а иногда и невозможно иметь устойчивую связь»20.
Генерал-майор инженерно-технических войск Алексей Лаврентьевич Шепелев, в начале войны занимавший должность главного инженера 17 воздушной армии, также отмечает, что радиосвязь при организации боевых действий ВВС фронта практически не использовалась: «Своими бомбовыми ударами противник часто нарушал наши телеграфные и телефонные линии. А радиосвязь с авиачастями тогда еще не поддерживали: не хватало радиотехнических средств. Даже в штабе ВВС фронта отсутствовал выносной пункт управления. Его удалось оборудовать лишь в конце 1941 года. Но и после этого им пользовался только генерал А.А.
Новиков с небольшой оперативной группой. Остальные работники управления и штаба ВВС всю войну находились в своем довоенном здании, где был оборудован стационарный узел связи»21.
Сравнивая конструктивные особенности русских, английских и немецких авиационных радиостанций, в книге за 1942 г. находим следующее: «Краткий справочник по радиостанциям, применяемым в авиации», не позволяет заметить особых недостатков за русскими радиостанциями. Так, русская самолетная радиостанция «РСИ-4» для истребителей и штурмовиков имела мощность передатчика в антенне 0,8-1,2 вт, при напряжении 26 в потребляла мощность 75-150 вт, диапазон частот передатчика и приемника имела до 5000-6000 кгц (85-80 м), дальность действия между самолетами с однотипными радиостанциями 15-20 км, между самолетами и наземными радиостанциями 60-110 км максимум. Весила 12,67 кг.22 Английская самолетная радиостанция «ТР-9Д» для истребителей имела мощность передатчика в антенне 0,2 вт, имела автономное от батарей питание, диапазон частот 4300-6600 кгц (45-70 м), дальность действия между самолетами 8 км, между самолетами и наземными радиостанциями до 60 км максимум. Вес – 19 кг23. Немецкая самолетная радиостанция «ФУГ-10» для истребителей, штурмовиков и разведчиков имела мощность передатчика в антенне 16-23 вт, при напряжении 26 в потребляла мощность 800 вт, диапазон частот передатчика и приемника имела до 6000 кгц (100 м), дальность связи с наземной радиостанцией, телеграфом на коротких волнах имела до 700 км. Все они симплексные»24.
Но если на бумаге все выглядит «не хуже», на деле это оказывалось совсем не так… И оборудование просто снимали с самолетов. Об одной из причин, почему уже имеющееся радиоснаряжение снимали с истребителей, говорится в статье «О состоянии радиосвязи в истребительных полках ВВС Красной Армии»: «… в начале войны наши новейшие истребители ока- зались практически без радиосвязи между собой, командными пунктами авиаполков, а также постами Воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), не говоря уж об авианаводчиках в наземных войсках. В большинстве своём, не имея радиосвязи, истребительные полки ВВС и вступили в боевые действия в июне 41-го».
Как отмечали сами сотрудники Народного комиссариата авиационной промышленности, выпускаемые радиостанции РСИ-3 «Орел» (РСИ - радиостанция для истребителей) и ей подобные отличались большой массой (до 51 кг) и очень низким качеством и надежностью. Как сообщают Ю. Мухин и А. Лебединцев в книге «Отцы-командиры», примерно за год до войны радиостанции с истребителей были сняты и отправлены на склады. Эксперты объясняют это решение тем, что авиадвигатели самолетов СССР были якобы незаэкранированы, и от системы зажигания в наушниках слышался треск, который отвлекал летчика. На треск в наушниках, в частности, ссылается и воевавший на ЛаГГ-3 летчик Федор Архипенко:
« –…Рация на ЛаГГ-3 была, но она так трещала, что после того как наушники снял, еще три часа надо было в себя приходить. А уже на американских «Аэрокобрах» было нормально. Еще только двигатель запустил, а уже с передовой запрос: «10-й, где ты на-ходишься?»25.
Поэтому и пользовались летчики эволюциями крыльев и знаками. Об этом упоминают некоторые ветераны Великой Отечественной. В сборнике воспоминаний и очерков «В небе фронтовом» есть упоминание про 1941 год: «… командир полка Баранов замечает 12 вражеских машин и покачиванием крыльев дает сигналы к атаке»26.
Иван Ильич Бабак в своей документальной повести «Звезды на крыльях» писал: «Если радио не будет работать - следи за эволюциями моего самолета. При встрече с «мессерами» я буду покачивать машину с крыла на крыло, ты сразу же подстраивайся к моему самолету поближе, чуть ниже, прячься под меня. Только не отрывайся от меня, а то могут сбить. Если будем вместе, пускай хоть три десятка «мессеров» повстречаем — разгоним их, нам они ничего не сделают…»27.
Летчик Анатолий Гордеев, говоря про 1942 год, упоминал про радио, этот отрывок есть в книге «Война. Я помню. Проект Артема Драбкина. Истребители»:
– Радиосвязь была у вас?
– Только на прием работала.
– У вас приемник, у ведущего передатчик и приемник?
– Нет, у него тоже только приемник. Сигнализация покачиванием крыльев и другие знаки всякие28.
В августе 1942 года радиостанций у большинства все еще не было: «Командир группы сигналами своего самолета (тогда радиосвязи на И-16 не было) перестроил группу в правый пеленг и дал сигнал начать атаку»29.
Еще одно похожее резюме про 1942 год находим в книге «Советские Военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»: «Истребительная авиация приобрела опыт в прикрытии сухопутных войск патрулированием в воздухе и дежурством на аэродромах. Патрулирование групп самолетов над своей территорией и вылеты на перехват, по данным постов ВНОС, в связи с отсутствием радиотехнических средств были недостаточно эффективными. Авиационные части, вооруженные новыми типами истребителей, стали переходить к выполнению задач в составе пар самолетов»30.
В сборнике воспоминаний «Герои кубанского неба» уже про май-июль 1943 г. говорится: «Воздушные сражения, проведенные на Кубани, показали возросшее мастерство летного состава и командиров. Здесь широко применялись вертикальный маневр, эшелонирование по высоте боевых порядков, ввод в сражение резервов, управление групповым воздушным боем с наземных пунктов управления. Четко была организована система оповещения и наведения истребителей на противника, широко при- менялось наращивание авиационных сил в ходе воздушного сражения. Оснащение истребителей радиостанциями дало возможность отказаться от плотных, сомкнутых боевых порядков. Если раньше командир мог руководить в воздухе своим подразделением только эволюциями самолета или показывая личный пример, что требовало зрительной связи, то в битве на Кубани он управлял по радио. Благодаря этому истребители получили возможность эшелонировать боевые порядки по высоте и фронту. Этот прием получил название «кубанская этажерка»31.
Довольно подробно рассказывает о состоянии радиосвязи летавший на Ла-5 Д.А. Алексеев, воевавший с августа 1943 г. Он же в интервью, записанном и обработанном А. Сухоруковым, про оснащение истребителя Ла-5ФН говорит следующее: «Обычный комплекс пилотажных приборов. Что было плохо - не было радиокомпаса. Правда, под конец войны нам поставили оборудование для пеленгации, но полностью оно проблемы возвращения на аэродром, при потере ориентировки, не решило. Очень много потерь было из-за того, что теряли ориентировку»32. Он, кстати, упоминает, что на этих истребителях было бронестекло. Правда, говорит и о высокой аварийности этих истребителей и многочисленных недостатках…
О радиостанциях Ла-5ФН, на самолетах, появившихся в 1943 г. и имевших нормальную радиосвязь, упоминает, что «радиостанция была плохой… РСИ-3М называлась… Я большинство полетов летал ведомым, это значит «слухачем». Я не говорил, я слушал. Очень плохая была связь, помехи были ужасные, «трещала» эта РСИ-3М сильно. И в большей части вылетов самолет у меня был только с приемником. Как мы только не изощрялись, чтобы связь улуч-шить»33.
Рыбалко Виталий Викторович, воевавший с 1941 г. по 1943 г. на МиГ-3, в ответ на вопрос, как обстояло дело с радиосвязью, ответил: «В 1941-м, 42-м радио не было. Даже если и было, им не очень пользовались. Командование ввело даже звания: «Мастер радиосвязи» I, II-го класса. Мы должны были знать азбуку Морзе, сдать экзамен. Внедряли именно таким способом…»34.
Достаточно подробную характеристику в авиации в связи с радиооборудованием дал маршал авиации, трижды Герой Советского Союза летчик Александр Иванович Покрышкин. Он вспоминал: «Была еще одна очень серьезная причина, которая отрицательно влияла на нашу боевую активность, на эффективность боевых действий. Это отсутствие радиосвязи на наших истребителях. Радиосвязь обеспечивает четкое управление в воздухе, позволяет предупредить летчиков об опасности. Из-за отсутствия радиостанции на наших истребителях мы были вынуждены управлять примитивными эволюциями самолетов»35.
Также он анализирует высотный истребитель противника Мессершмитт «Ме-109»: «Особенно заинтересовало переднее бронестекло. Имея такую защиту, вражеские пилоты все же боялись лобовых атак. Жаль, что подобных передних бронированных стекол нет на наших самолетах. Вооружение «мессера» – две крыльевые пушки и два пулемета в носовой части самолета – было мне уже знакомо по воздушным боям. Интерес вызывала и радиостанция. Кнопка передатчика была вмонтирована в секторе газа. Как нам не хватает всего этого на истребителях! Наличие передних бронированных стекол в фонаре кабины могло спасти жизнь не одному советскому летчику. А насколько увереннее мы бы чувствовали себя в бою. Отсутствие радиостанций делает нас глухими в полетах. Связь нужна для управления группой, для предупреждения летчиков об опасности, она необходима в бою»36.
Участвуя в технической конференции в декабре 1941 года, А. Покрышкин обозначил преимущества и недостатки истребителя «МИГ»: «Высказал свои взгляды на современную тактику боя истребителей, сказал о преимуществах «мига» в скорости полета и при бое на вертикальном маневре. Вместе с тем указал на его слабое вооружение, на отсутствие в нем радиостанции, столь необходимой для управления действиями групп истребителей. Подчеркнул необходимость иметь на новых истребителях пушки, ибо пулеметное вооружение не всегда достаточно эффективное средство в современном воздушном бою»37. Его выступление многим не понравилось (конференция прошла в Ровеньках, А. Покрышкин в своей книге «Познать себя в бою» иной информации не приводит).
Легендарный летчик А. Покрышкин также упоминал о том, что и на бомбардировщике «Су-2» тоже не было радиосвязи: «Но как трудно было это сделать при отсутствии радиосвязи, без договоренности на земле»38.
По его словам, широкое внедрение радиосвязи началась в 1942 году: «Когда узнал, что наша промышленность стала выпускать истребители с бортовыми радиостанциями, решил не ждать специальных указаний. Собрал летчиков, сказал, что начнем готовиться к этому сразу же. Фронт не дает времени. Изучил документы, стал проводить занятия. Большое внимание уделял отработке радиообмена в полете. Все лишнее – засоряющие эфир разговоры, информации в приказаниях командиров групп – решительно исключил. Добивался короткого и четкого радиообмена. Летчикам внушал, что каждое лишнее слово по радио отнимает ценное время от действий в бою и может привести к неоправданной гибели»39.
Конечно, радиосвязь требовалась не только для оперативного реагирования на постоянно меняющуюся боевую обстановку. Из-за отсутствия радиосвязи летчики попадали в плен. Об этом упоминает известный летчик Григорий Павлов, прошедший путь от пилота до командующего военно-воздушными силами округа, кавалер Золотой Звезды. Так, Григорий Родионович в своей книге «В военном небе» упомянул о том, что 27 июля 1941 года вылетел с лейтенантом Мамаевым на разведку вражеских войск и встретил двух «Мессершмиттов», с которыми завязался бой. Самолет напарника на- скочил на снарядную очередь и, снижаясь, полетел в сторону близлежащего аэродрома Фастов, который на днях был занят противником. «Но об этом Мамаев забыл и попал в плен. «Эх, было бы радио – подсказал бы товарищу», – с горечью подумал я…»40.
Летчик Г. Павлов упоминает о том, что преимущества для врага создавало то, что истребитель «Чайка» (самолет И-153, на котором воевали многие летчики) значительно уступал немецким «Мессершмиттам» в скорости, вертикальном маневре и огневой мощи, а также то, что летчики воевали без раций, без возможности общаться, советоваться, подсказать. Они выходили из положения, применяя нехитрые жесты руками и движениями самолета. В книге воспоминаний «В военном небе» он упоминает об этом не менее 5 раз: «… как передать ведущему нашей девятки, что выше нас барражируют двенадцать «Мессершмиттов»? Радио нет. И видит ли он их? Я вышел вперед, показываю рукой вверх, покачиваю крыльями. Ведущий кивает: «Вижу»»41.
Безусловно, летчикам на деле, в бою пришлось убедиться, что управлять группой в бою, не имея радио, дело архитрудное. Они нашли выход: решили держаться дружнее и не позволять врагу в бою разбивать группу на одиночек. Но отсутствие радио все-таки создавало дополнительные сложности не только для боя, но и жизни. В 1942 году летчики самолетов, оснащенных радио, не всегда использовали его, взлетая с аэродрома на задание, чтобы не запеленговал противник. Но оставались самолеты, имевшие только радиоприемник. « – Четверку «мес-сов» видишь? – спрашивает Осипов. – Справа вверху… В ответ покачиваю крыльями (на моем самолете только радиоприемник; позднее передатчики устанавливались уже на всех самолетах)»42.
И даже в бою, чтобы противник не перехватил разговоры, слушали команды, но не всегда давали голосовой ответ: «По радио он ничего не ответил, но проходя со снижением под нами, качнул крыльями: «Вас понял!»43.
Об этом упоминается в книге «Авиация ВМФ в Великой Отечественной войне»: «Управление боевым порядком группы самолетов в воздухе первое время осуществлялось эволюциями ведущего, позже для этой цели стали пользоваться радио»44. Радиокомпасы в авиации Военно-морского флота отсутствовали до 1945 г.: «Выполнение полета осложнялось отсутствием наземных средств радионавигации (радиокомпасы имелись только на некоторых самолетах). Поэтому практически использование широковещательных радиостанций в целях ориентации исключалось»45.
Уже после войны симплексные радиостанции критиковались К.Х. Муравьевым, который с 1942 г. был назначен начальником Управления вооружения средствами связи (3-е управление ГУСКА, главное управление связи Красной Армии). В своей диссертации «Анализ техники связи советской армии по опыту Великой Отечественной войны» (1948 г.) он проанализировал их (не РСИ-3, а РСИ-6) по разным критериям и сделал вывод о том что «симплексные радиотелеграфные и радиотелефонные каналы неудобны в пользовании, имеют весьма низкую производительность…»46.
Также он отмечал, что «… танковые и самолетные радиостанции (РСИ-6, РСБ-бис, 10-РК-26) рассчитаны на очень ограниченное время непрерывной работы на передачу. Нормально их время работы на передачу составляет 205 мин., а максимум не превышает дополнительно 15 минут, что также следует считать техническим несовершенством этих радиостанций»47. К.Х. Муравьев отмечал и другие погрешности: недостаточная механическая прочность и неудовлетворительная влагостойкость. Для танков важно уменьшать габариты радиостанций, а для самолетов – вес.
Над улучшением ситуации в годы войны активно работала и отечественная промышленность: «… для улучшения качества приема, устойчивости работы и увеличения дальности связи трижды модернизировалась самолетная радиостанция РСИ-3. Зна- чительно усовершенствовалась радиолокационная станция «Редут», радиостанция РСБ-бис и многие другие средства. Улучшался монтаж радиооборудования на самолетах, расширяя возможности работы с ним экипажа в воздухе. Так, в 1942–1943 гг. тумблеры и кнопки запуска передатчиков стали размещать на секторах газа или ручке управления самолетом.
Отечественное приборостроение и радиопромышленность оказались способны не только модернизировать существовавшие, но и создавать новые образцы техники. Была создана самолетная радиостанция РСИ-6, обеспечивавшая двухстороннюю связь самолетов истребительной и штурмовой авиации на дальностях до 150 км, радиолокационная станция «Пегматит», новые типы переговорных устройств для двухместных штурмовиков (СПУ-2М, СПУ-2ММ) и многоместных бомбардировщиков (СПУ-ФБ, СПУ-Ф). В конце 1943 г. в войска поступил подвижной радиоузел РУК-42, который состоял из передатчика, шести приемников первого класса, комплекта аппаратуры быстродействия и диспетчерского пункта, размещенных на одной автомашине ГАЗ-ААА»48.
В целом можно резюмировать, что за годы Великой Отечественной войны обеспечение советской авиации радиоснаряжением прошло большой путь. Первоначально авиация, как, впрочем, и вся РККА, за счет фактора внезапности понесла потери. Для армии в целом они выразились в значительных территориальных, людских потерях, а для авиации – потеря 1200 самолетов за первый день войны, разбомбленные аэродромы и невозможность быстро наладить их работу (отремонтировать взлетно-посадочные полосы) ввиду наступления быстро продвигавшегося противника.
Самолеты авиации, по сравнению с самолетами противниками, имели определенные отличия. Разница в скороподъемности и горизонтальном полете нивелировалась за счет мастерства пилота. Существенные различия на начальном этапе войны имели место и в системе радиобеспечения. Советские летчики при отсутствии радиосвязи вынуждены были находить инновационные способы коммуникаций с наземными службами, а также различные варианты общения и помощи в воздухе друг другу.