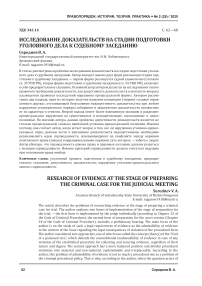Исследование доказательств на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию
Автор: Середнев В.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 2 (25), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены проблемы исследования доказательств на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию. Автор поводит анализ двух форм реализации стадии подготовки к судебному заседанию, - первая форма реализуется судьей единолично (согласно гл. 33 УПК РФ), вторая форма подготовки к судебному заседанию (гл. 34 УПК РФ), включает в себя предварительное слушание. Основной упор автором делается на исследовании такого правового требования доказательств, как допустимость доказательств в контексте вопроса касающегося правовых последствий нарушения процессуальной формы. Автором рассмотрено два подхода, один из которых получил название концепции (теории) «плодов отравленного дерева», отстаивающей безусловную недопустимость доказательства при любом нарушении установленного порядка собирания и закрепления доказательств независимо от их характера и степени. Второй подход имеет более взвешенную позицию и разделяет процессуальные нарушения на существенные и несущественные, восполнимые и невосполнимые. По мнению автора, данная проблема допустимости доказательств является не столько процессуальной, сколько проблемой уголовно-процессуальной политики. Именно поэтому, как считает автор, когда встает вопрос о том, все ли нарушения уголовно-процессуальных норм, должны вести к признанию доказательств недопустимыми, необходимо реализовывать идею справедливости, основывающуюся на конфликте между нормами позитивного права (закона) и иррациональными нормами, суть которых, - забота о людях. Автор убежден, что справедливость важнее права и правовые коллизии должны решаться с позиции справедливости. Именно критерий справедливости должен считаться ведущим при толковании права вообще.
Уголовный процесс, подготовка к судебному заседанию, предварительное слушание, допустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального закона, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/14119502
IDR: 14119502 | УДК: 343.14
Текст научной статьи Исследование доказательств на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию
Отличительной чертой стадии подготовки к судебному заседанию является то, что на этой стадии нет основной задачи установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, так как данная задача будет поставлена лишь на стадии судебного следствия. Но существуют исключения , которые необходимо указать, так как они подлежат рассмотрению на стадии подготовки к судебному разбирательству1. Во-первых, необходимо установить обстоятельства, которую влекут (могут повлечь) освобождения лица от наказания и уголовной ответственности (п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).
Во-вторых, необходимо устанавливать обстоятельства, которые могут повлечь прекращение уголовного дела, как с примирением сторон в процессе (ст. 25 УПК РФ), так и прекращением уголовного дела в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ).
В-третьих, установление обстоятельств, которые могут повлечь прекращение уголовного (преследования) дела в связи с назначением, такой меры уголовно-правового характера, как назначение штрафа (ст. 25.1 УПК РФ).
В-четвертых, установление обстоятельств, которые влекут прекращение уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
В-пятых , прекращение уголовного дела в связи с возмещением ущерба по уголовным дела в сфере экономической деятельности (ст. 28.1 УПК РФ).
Понятно, что на стадии судебного разбирательства предмет доказывания значительно шире, чем на данной стадии подготовки к судебному заседанию, по той причине, что в подготовительной стадии исследуется познавательно-процессуальная деятельность субъектов доказывания с точки зрения не противоречивости уголовно-процессуальному законодательству. Соответственно могут также устанавливаться обстоятельства, которые необходимы для принятия судьей решений по поступившему уголовному делу согласно ч. 1 ст. 227 УПК РФ и ч. 1 ст. 236 УПК РФ [12, с. 176].
Существуют две формы реализации стадии подготовки к судебному заседанию . Первая форма , реализуется судьей единолично (согласно гл. 33 УПК РФ), по решению вопросов, указанных в ст. 228 и ч. 2 ст. 231 УПК РФ. Данная форма представляет собой анализ судьей материалов, находящихся в уголовном деле, поступившем в суд. Другими словами судья обязан, изучить материалы уголовного дела, которые поступили к нему и при этом выявить именно существенные нарушения законодательства, т. е. те, которые препятствуют рассмотрению уголовного дела судом2. Следует подчеркнуть, что у данной стадии нет процессуальных сроков. То есть, судья в любое для него удобное время (разумеется, в рамках данной стадии) проводит необходимое процедурное действие.
Вторая форма подготовки к судебному заседанию (гл. 34 УПК РФ), включает в себя предварительное слушание. Вторую форму стадии подготовки к судебному разбирательству условно можно разделить на три этапа :
Первый этап — судья единолично проводит изучение материалов уголовного дела и рассматривает имеющиеся заявленные ходатайства, Кроме того рассматривает вопросы опросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу (ст. 228 УПК РФ), и устанавливая основания, которые предусмотрены ст. 229 УПК РФ, назначает предварительное слушание.
Второй этап — проведение предварительного слушания (закрытое судебное заседание) с соблюдением требований, предъявляемых к судебному заседанию.
Третий этап — согласно ст. 232 УПК РФ, судья дает распоряжение о вызове в судебное заседание лиц, указанных в его постановлении, а также принимает иные меры по подготовке судебного заседания [12, с. 176].
Описание проводимого исследования
Логично возникает вопрос, а происходит ли исследования доказательств в ходе предварительного слушания по делу? В данном случае следует опираться на главу 34 УПК РФ, которая регулирует процедуру предварительного слушания по уголовному делу. Соответственно, данная глава не содержит, какой либо нормы, которая бы запрещала судье исследовать доказательства, при решении вопросов, стоящих перед судом на данной стадии. Более того в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (далее — ФЗ об ОРД)1 уделяется внимание результатам оперативно-розыскной деятельности (ОРД), которые согласно ст. 89 УПК РФ (Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности) предопределяют их пригодность для использования в сфере уголовного процесса в ходе доказывания по уголовному делу, если результаты ОРД отвечают требованиям которые предъявляются к доказательствам. Соответственно, на основании ч. 1 ст. 234 УПК РФ судья обязан руководствоваться в своих действиях всеми нормами, входящими в гл. 35 УПК РФ, в частности ч. 1 ст. 240 УПК РФ, которая определяет область и непосредственность исследования доказательств, регламентируя весь процесс судебного разбирательства по уголовному делу (не только судебное следствие), что позволяет прийти к умозаключению о возможности и необходимости исследования доказательств на протяжении всех стадий судебного производства.
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК РФ («Основания проведения предварительного слушания») на стадии подготовке к судебному заседанию, при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства, суд назначает, проводит предварительное слушание. Частью 3 ст. 229 УПК РФ, предусмотрено, что ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.
Руководствуясь ч. 3 ст. 325 УПК РФ («Ходатайство об исключении доказательств») судья вправе допросить свидетеля и приобщить к уголовному делу документ, указанный в ходатайстве. В случае, если одна из сторон возражает против исключения доказательства, судья вправе огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в уголовном деле и (или) представленные сторонами. В соответствии с ч. 7 ст. 234 УПК РФ («Порядок проведения предварительного слушания») ходатайство стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств или предметов подлежит судьей удовлетворению, если данные доказательства и предметы имеют значение для уголовного дела. При проведении предварительного слушания на основании ч. 1 ст. 234 УПК РФ могут проводиться судебные действия, которые регламентируются (устанавливаются) гл. 37 УПК РФ («Судебное следствие»).
Следовательно, судья разрешает ходатайства о признании доказательств недопустимыми, выслушав мнения сторон. В уголовно-процессуальном законодательстве не содержится норм, которые бы запрещали проведение каких либо процессуальных, следственных и судебных действий, когда их проведение необходимо для установления недопустимости доказательств. Следует отметить, что судебная практика указывает на то, что при признании 100 % недопустимых доказательств судом, лишь 10 % исключаются в ходе предварительного слушания. Происходит это вследствие того, что вопрос о недопустимости доказательств может решаться в последующем на протяжении всего процесса судебного следствия [1, с. 219]. На наш взгляд позиция суда на стадии предварительного слушания противоречит ст. 121 УПК РФ («Сроки рассмотрения ходатайства»), согласно данной норме ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. То есть на основании этого, если имеется информация о нарушении законодательства, суд обязан вынести незамедлительно свою мотивированную судебную оценку.
Результаты исследования и обсуждения
На наш взгляд большая часть нарушений, которая связана с исполнением требований уголовно-процессуального законодательства, является результатом, ни какого то «низкого уровня профессионализма», а простой человеческой невнимательностью, ленью и пренебрежением своими должностными обязанностями при осуществлении доказывания в рамках уголовного дела. Для отечественного уголовного процесса вопрос, связанный с допустимостью доказательств, является не только актуальным, но и представляет собой краеугольную проблему в связи с тем, что большинство доказательств собираются на стадии предварительного расследования, где как мы выше в данной работе уже писали, отсутствует состязательность. Где «вершит правосудие» карательная процедура, порою сдобренная репрессивными элементами, в лице следователя (дознавателя) имеющая соответственно однобоко-обвинительный уклон.
Так, профессор Л. Д. Калинкина стоит на позициях того, что «нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, относящихся к основаниям, условиям осуществления процессуальной деятельности и процессуальных нарушений в отношении субъектов, которым гарантируется права участников уголовного процесса, а также порядок производства следственных действий и оформление их результатов, в ходе которых происходит получение недостоверной доказательственной информации, либо ставится под сомнение достоверность данной информации, должны признаваться недопустимыми доказательствами» [3, с. 82]. С данным мнением профессора Л. Д. Калинкиной мы согласны лишь в части того, что к недопустимости доказательств с одной стороны должны приводить нарушении требований уголовно-процессуальных норм. С другой стороны, мы не согласны, что достоверность информации может завесить от формального соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства (например, надлежащее оформление результатов следственных действий, — доказательств). Если следовать логике Л. Д. Калинкиной, то показания, добытые под пыткой (категорически запрещается!!!), будут недостоверными? Они будут недопустимыми с нашей точки зрения в силу нарушения принципа уголовного процесса, предусмотренного ст. 9 УПК РФ («Уважение чести и достоинства личности»), из которого следует, что никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Но это никаким образом не связано с достоверной (правдивой) или недостоверной информацией. Еще более нелепо на наш взгляд о соотношении допустимости и достоверности доказательств пишут, такие авторы как Т. Шаповалова и Е. Бонар, указывая на то, что «допустимость и достоверность являются взаимосвязанными понятиями, а их различие состоит лишь в том, что допустимость это формальные требования уголовно-процессуального законодательства, а достоверность, является содержательным признаком» [13, с. 97]. Убеждены, что доказательство может быть недопустимым, ввиду не соблюдений формального требования уголовно-процессуального законодательства, и при этом может быть достоверным (т. е. сведения в нем будут соответствовать действительности того, что было на самом деле, но из числа допустимых доказательств оно будет исключено и не будет иметь юридической силы). Тем более, как мы указывали ранее, допустимость определяется, прежде всего, соблюдением формальных правил, которые прямо указаны в законе. Другое дело, что в действующем законодательстве данные правила не детализированы, имеют расплывчатую интерпретацию, определяющих допустимость доказательств. Главный критерий допустимости доказательств — его процессуальность, а это требует, чтобы все критерии допустимости доказательств нашли отражение в процессуальной форме доказательственной деятельности. Анализ теоретической сущности категории допустимости доказательств в уголовном процессе позволяет рассматривать её как самостоятельный уголовно-процессуальный институт [8, с. 325].
Подчеркнем, что хотя согласно ст. 75 УПК РФ, недопустимыми являются доказательства, которые получены с нарушениями требований УПК РФ, но при этом законодательно не конкретизированы признаки нарушений, которые бы позволили их оценивать в качестве основания недопустимости доказательств. Нет в законе и указания на те нормы, нарушение которых приводит к признанию недопустимости доказательств. Именно потому, что в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют критерии оценки того или иного нарушения процессуального законодательства, институт недопустимости доказательств применяется довольно редко. Даже в случаях применения норм, регулирующих допустимость доказательств и признания каких либо доказательств недопустимыми, не указывается, почему нарушение норм УПК РФ привело к юридической ничтожности доказательств [1, с. 221].
В последние годы вопрос, касающейся правовых последствий нарушения процессуальной формы, стал дискуссионным, определились два подхода, один из которых получил название концепции (теории) «плодов отравленного дерева». Это название заимствовано из американской правовой науки, отстаивающей безусловную недопустимость доказательства при любом нарушении установленного порядка собирания и закрепления доказательств независимо от их характера и степени [11, с. 47—49]. Другие ученые занимают более взвешенную позицию, выступая за дифференцированный подход, и разделяют процессуальные нарушения на существенные и несущественные, восполнимые и невосполнимые [2; 4, с. 72—105; 5]. Данная проблема является не столько процессуальной, сколько проблемой уголовно-процессуальной политики.
В основе первого положения лежит идея глобального устранения из доказывания процессуальных нарушений, исходящая из того, что только суровыми санкциями недействительности процессуальных актов можно преодолеть процессуальный нигилизм, удерживая органы предварительного расследования и суд от нарушений, которые порождают сомнения в качественности доказательств. Кстати, к идеи первого положения, как правило, относятся адвокаты, обычно ссылаясь на ч. 2 ст. 50 Конституции РФ и ст. 75 УПК РФ, требуют признания всех без исключения доказательств недопустимыми, которые получены в результате любого нарушения уголовно-процессуального законодательства, соответственно обжалуют все без исключения нарушения законодательства [1, с. 222].
В основе второго подхода лежит идея, исходящая из интересов борьбы с преступностью, которая может пострадать, если предавать чрезмерное, гиперболизированное значение «формальным» и реально устранимым процессуальным нарушениям.
Под несущественными нарушениями следует понимать нарушения, которые не повлияли и не могли повлиять на правдивость, полноту и достоверность сформированного доказательства (например, вызов свидетеля на допрос способом, не предусмотренным законом, никак не может повлиять на правдивость, полноту и достоверность следственного действия — допрос, т. к. порядок вызова свидетеля на допрос не затрагивает существа познавательной деятельности следователя как субъекта доказывания).
Понятие существенного нарушения уголовно-процессуального закона (в качестве кассационного основания) содержится в ст. 381 УПК РФ: «существенные нарушения уголовно-процессуального закона признаются такие нарушения, требований статей настоящего Кодекса, которые путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников процесса при рассмотрении дела или иным путем помешали суду всесторонне рассмотреть дело и повлияли или могли повлиять на постановление законного и обоснованного приговора».
Заключение и вывод
Мы считаем, существуют два организационно-правовых механизма в критерии допустимости доказательств в контексте воспол-нимости, либо невосполнимости нарушений уголовно-процессуального законодательства. Первый механизм — по способу получения доказательств, а второй — по процессу оформления полученных доказательств.
Грань между устранимыми и неустранимыми процессуальными нарушениями определяется, прежде всего, во-первых, нарушением или ограничением конституционных прав человека и гражданина; а во-вторых , возможностью или невозможностью восполнить образовавшийся в результате отступления от процессуальной формы пробел в доказывании. Естественно, что нарушение конституционных гарантий прав и свобод граждан при уголовном преследовании всегда ведет к признанию полученных доказательств, не имеющих юридической силы. Однако следует уточнить, что в некоторых случаях по данным нарушениям допустимо повторное проведение следственного действия (если лицо, в отношении которого оно проводилось, не возражает, а тем более настаивает на его проведении). Например, близкий родственник обвиняемого изъявил желание дать показания, однако перед допросом следователь не разъяснил ему содержание ст. 51 Конституции РФ (или разъяснил, но не зафиксировал в протоколе). Согласно указанию Пленума Верховного Суда РФ такие показания являются недопустимыми1. Но если лицо настаивает на допросе, то очевидно, что нет никаких оснований для отказа в этом [6, с. 76].
Восполнимые нарушения — это те, которые могут быть устранены, нейтрализованы [10, с. 240—241] (напр., отсутствует, чья либо подпись в протоколе, ее можно получить в последующим). Что касается содержания следственных действий, то можно сказать, что нарушения данной категории тоже устранимы, если не существует препятствий гносеологического характера, т. е. препятствие в познавательном процессе. Основным способом устранения процессуальных нарушений должно являться дублирование, повторение, как полное, так и частичное, следственного действия (напр., повторное проведение осмотра места происшествия, следственного эксперимента).
Мы полагаем, что нельзя рассматривать чисто механически вопрос о том, что все ли нарушения уголовно-процессуальных норм должны вести к признанию полученных доказательств недопустимыми. Полагаем в данном контексте необходимо вспомнить о трансформации идеи справедливости, о которой, например, четко, и обосновано писал П. Рикер. Данный автор указывал на то, что само продвижение идеи справедливости является трудным решением, которое должно приниматься в обстоятельствах при конфликте норм законодательства, которые с одной стороны имеют одинаковую силу и вес. Именно поэтому когда встаешь перед выбором соблюдения норм закона или проявления заботы о людях, то приходится выбирать не между «белым» и «черным», а между «серым» и «серым» [7, с. 238]. Кроме того, в некоторых случаях неизбежная расплывчатость законов и широкая сфера дозволяемой их интерпретации, взрастаемой на почве крайне низкого уровня правосознания, может поощрять лишь произвол в решениях, тогда как они во всех случаях должны быть результатом произнесения слов справедливости. Истинное решение прокурора, дознавателя, следователя и судьи при оценке доказательств должно быть вынесено на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств уголовного дела в четком соответствии с нормами материального и процессуального права. Мы полагаем, что в общечеловеческом смысле (смысл есть не что иное, как причащение мысли истине) справедливость важнее права, ибо человек не может быть ниже того, что породил сам. И правовые коллизии должны решаться с позиции справедливости, (в том числе при оценке доказательств в уголовном процессе при решении вопроса о допустимости либо о признании их недопустимыми), а не формального права. Именно критерий справедливости должен считаться ведущим при толковании права вообще, а в уголовном процессе в частности. Где справедливость это не просто законность при исполнении приговора, основанном на позитивном праве, но и установлении «других данных» обвиняемого. То есть, кроме «установочных данных», указанных в ч. 1 ст. 265 УПК РФ (фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, владение языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, место жительства подсудимого, место работы, род занятий, образование, семейное положение и другие данные1, касающиеся его личности), необходимо установление «других данных». Думается к «другим данным» для всестороннего и объективного изучения личности обвиняемого (подсудимого) необходимо относить: интересы обвиняемого, его привычки, как отрицательные, так и положительные, отношение с окружающими, пытаться установить чувства и мотивы, которые способствовали совершению преступления, другими словами раскрывать психологически портрет преступника [9, с. 78—84].
Список литературы Исследование доказательств на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию
- Васяев, А. А. Теория исследования доказательств в российском уголовном процессе : монография / А. А. Васяев. — Москва : Юрлитинформ. — 2016. — 467 с.
- Зажицкий,В.О. О допустимости доказательств / В.О.Зажицкий // Российская юстиция.— 1999. —№ 3.
- Калинкина, Л. Д. Нарушения уголовно-процессуального закона и их правовые последствия по УПК РФ / Л. Д. Калинкина // Проблемные вопросы применения Уголовно-процессуального кодекса РФ : материалы науч.-практ. конференции / Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева, Мордовский гуманит. ин-т, Прокуратура РМ и др. ; ред.: В. Т. Томин, Л. Д. Калинкина. — Саранск : Тип. Крас. окт., 2002. — С. 82.
- Кипнис, Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н. М. Кипнис. — Москва : Юрист. —127 с.
- Некрасов, С. Допустимость доказательств: вопросы и решения / С. Некрасов // Российская юстиция. — 1998. — № 1.
- Орлов, Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе / Ю. К. Орлов. — Москва : Юристъ, 2009. —174 с.
- Рикёр, П. Справедливое / П. Рикёр : пер. Б. Скуратова при участии П. Хицкого. — Москва : Гнозис : Логос, 2005. —299 с.
- Середнев, В.А. Проблемы допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве / В.А. Се-реднев // Мир науки, культуры, образования. — 2012. — № 3 (34). — С. 325.
- Середнев,В.А. К вопросу установления и исследования «других данных» о личности подсудимого в ходе судебного разбирательства, как необходимому условию постановления справедливого приговора / В.А. Середнев // Экономика. Социология. Право. — 2019. — № 4 (16). — С. 78—84.
- Теория доказательств в советском уголовном процессе / Р. С. Белкин, А. И. Винберг, В.Я. Дорохов, Л. М. Карнеева [и др.] ; редкол.: Н. В. Жогин (отв. ред.), Г. М. Миньковский, А. Р. Ратинов, В. Г. Танасевич, А. А. Эйсман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрид. лит., 1973. — 736 с.
- Чувилев,А. Плоды отравленного дерева / А.Чувилев, А.Лобанов // Российская юстиция.— 1996. — № 11. — С. 47—49.
- Шагуров,А.В. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию в российском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Шагуров. — Саранск, 2004. — С. 176.
- Шаповалова,Т. Соотношение достоверности и допустимости доказательств в уголовном процессе / Т. Шаповалова, Е. Бондар // Уголовное право. — 2007. — № 6. — С. 97.