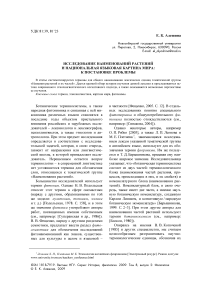Исследование наименований растений и национальная языковая картина мира: к постановке проблемы
Автор: Алешина Елизавета Константиновна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье систематизируются термины для общего наименования лексических единиц тематической группы «Названия растений и их частей». Дается краткий обзор истории изучения данной лексики и прослеживаются истоки современного этнолингвистического когнитивного подхода, а также описываются возможные перспективы ее изучения.
Термин, этнолингвистика, картина мира, фитонимы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737058
IDR: 14737058 | УДК: 81:39,
Текст научной статьи Исследование наименований растений и национальная языковая картина мира: к постановке проблемы
Ботанические терминосистемы, а также народная фитонимика и связанная с ней ми-конимика различных языков становятся в последние годы объектом пристального внимания российских и зарубежных исследователей – лексикологов и лексикографов, психолингвистов, а также этнологов и антропологов. При этом предмет исследования определяется в соответствии с исследовательской задачей, которая, в свою очередь, зависит от направления или лингвистической школы, к которой принадлежит исследователь. Нерешенным остается вопрос терминологии – в современной лингвистике нет устоявшегося термина для обозначения слов, относящихся к тематической группе «Наименования растений».
Большинство исследователей использует термин фитоним. Однако Н. В. Подольская относит этот термин к сфере ономастики (наряду с другими, образованными по той же модели: культоним, топоним, зооним и т. д.) [Подольская, 1978. С. 158], и в этом же значении фитоним употребляют авторы работ, посвященных именам собственным (см., например: [Суперанская и др., 1986]). В. В. Фещенко, наряду с другими разделами семиотики, предлагает ввести раздел фитосемиотики для обозначения исследований фитонаименований как знаков, существенных для культуры в целом и языковой – в частности [Фещенко, 2005. С. 12]. В отдельных исследованиях понятия специального фитотермина и общеупотребительного фитонима полностью отождествляются (см., например: [Сивакова, 2004]).
Однако некоторые авторы, например О. П. Рябко [2003], а также Л. П. Леонова и М. Е. Плетнева 1, занимающиеся исследованием лексем указанной тематической группы в английском языке, используют для их обозначения термин флоронимы . Им же пользуется и Т. Д. Барышникова, придавая ему наиболее широкое значение. Исследовательница указывает, что «ботаническая терминосистема состоит из двух частей: терминологического блока (наименования частей растения, процессов, происходящих в них, и их свойств) и номенклатурного блока (наименования растений). Номенклатурный блок, в свою очередь, также имеет две части, а именно научную ботаническую номенклатуру, созданную Карлом Линнеем, и когнитивную / народную ботаническую номенклатуру» [Барышникова, 1999. С. 2–3]. При этом другие авторы для наименования частей растений используют термин ботаникосемизм (см., например: [Билсон, 1980]).
Опираясь на мнения В. В. Копочевой [1985] и других специалистов, мы считаем целесообразным разграничивать научнотерминологические единицы, обозначив их как фитотермины и единицы когнитивной / народной ботанической номенклатуры, т. е. собственно фитонимы. В данный терминологический ряд можно включить такие обозначения, как фитосоматизмы (т. е. термины растительной анатомии – наименования частей растения, его тканей и т. д.) и фитохарактеристики (термины, которые характеризуют растение, рассматриваемое в том или ином аспекте – с точки зрения условий и способа его произрастания, размножения и плодоношения, внешнего вида и т. п., но при этом не являются названиями таксономических классов). Всю совокупность лексических единиц – фито-нимов, фитотерминов, фитосоматизмов и фитохарактеристик мы обозначим общим термином фитолексика.
Выбор термина фитоним в качестве базового обусловлен не только его широкими деривационными возможностями и большим благозвучием для носителей русского языка, но и еще двумя немаловажными факторами. С одной стороны, его внутренняя форма (гр. φυτόν ‘растение’) отсылает к более общему денотату, чем внутренняя форма термина флороним (лат. flos ‘цветок’). С другой стороны, именно термин фитоним является общеупотребительным в европейской и американской лингвистической науке (phytonym, phytonyme).
Изучение наименований растений имеет давнюю традицию. Как и многие направления языковых исследований, оно берет начало в двуязычных словарях эпохи Позднего Средневековья и Ренессанса, где приводятся латинское название и его перевод (нередко с многочисленными синонимами) на живые языки народов Европы. Неоднозначность перевода, обилие квазисинони-мичных народных названий, каждое из которых могло в разных регионах относиться к разным (но имеющим определенное сходство) референтам, а также бурное развитие ботаники, сопровождавшееся описанием новых видов растений на территориях, осваиваемых европейцами, привели к необходимости унифицировать научную ботаническую терминологию и создать стройную систему, в которой строго соотносились бы слово, его значение и денотат. Основы систематики были заложены шведским натуралистом К. Линнеем уже в середине XVIII в. (первое издание «Species plantarum» в 1753 г. в Стокгольме), однако лишь следующие по- коления ученых начали предпринимать попытки философского осмысления принципов категоризации и соотношения научной и наивной картины мира.
Вскоре после «Элементарной теории ботаники» Огюстена де Кандоля («Théorie élémentaire de la botanique ou exposition des principes de la classification naturelle et de l'art de decrire et d'etudier les vegetaux» , Paris, 1813), посвященной принципам таксономического описания растений, появляется (в 1817 г.) первое издание «Исторического и критического опыта о фитонимии, или растительной номенклатуре» Антуана Фе, который впоследствии будет доработан, дополнен примерами и неоднократно переиздан во многих городах Франции (см., например: [Fée, 1827]). В этой небольшой по объему работе автор-ботаник отмечает несовершенство и несистемность народной ботанической номенклатуры, и обозначает основные проблемы систематизации растений в ботанике и категоризации в языковой картине мира, а также проблемы соотношения биологической систематики и языковой категоризации. Кроме того, Фе (обладавший и классическим гуманитарным образованием, как большинство натуралистов его поколения) предлагает краткий очерк источников фитонимов в современных европейских языках и в латыни, критически оценивая этимологическую достоверность заимствований из каждого источника. И он же перечисляет уже существующие и возможные пути пополнения ботанической терминосистемы новыми искусственно сконструированными или взятыми из живых языков латинизированными наименованиями. Таким образом, Антуан Фе наметил основные направления лингвистического исследования фитолексики, которые стали активно разрабатываться уже лингвистами XX в.
Наиболее активно исследовалась этимология различных пластов фитолексики. Поскольку самым значительным источником словарного состава романских языков, а также, в некоторой степени, английского и немецкого, является латынь, неслучайно обращение специалистов-филологов к изучению этимологии фитонимов в классических языках (ср. словари [André, 1956; 1985; Carnoy, 1959]). Одной из первых отечественных работ, посвященных этимологии фитони-мов, стала монография В. А. Меркуловой «Очерки по русской народной номенклатуре растений» [1967], где рассматриваются наименования съедобных трав, ягод и грибов.
С 70-х гг. активно описывается и исследуется фитолексика русских говоров, а также языков народов России, не имевших собственной лингвистической традиции. Исследуются особенности ее словообразования, мотивирующие признаки, закономерности номинации (в том числе в сопоставительном аспекте). С развитием когнитивной лингвистики становится приоритетным исследование роли фитолексики в выражении национальной картины мира. Поскольку референтами фитонаименований являются объекты, тесно связанные с повседневной жизнью человека как биологического и социального существа (растения священные, съедобные, ядовитые, лекарственные, красильные, прядильные, используемые для строительства, производства мебели, декоративные, сорные), изучение данных пластов лексики позволяет делать выводы об истории и географических условиях проживания и миграции определенного этноса.
В европейской культурной антропологии на стыке ботаники, истории фармакологии и этнолингвистики выделяется этноботаника [Garnier, 1983; 1987; Miceli, 1999; Vilayleck, 2002]. Изучение особенностей категоризации в различных языках (на основе теорий категоризации, разработанных Брентом Берлином [Berlin et al., 1974; Berlin, 1992] и Элинор Рош [Rosch, Mervis, 1981]) также позволяет делать выводы о степени значимости для носителей языка тех или иных растений. Однако при этом, в силу консервативности языка, исследуется картина мира народа-носителя языка, какой она являлась на более ранних этапах истории, без учета эволюции картины мира и перемещения отдельных ее элементов на периферию языкового сознания говорящих.
Очевидно, что картина мира современного горожанина значительно отличается от картины мира его предков, имевших более тесную и непосредственную связь с окружавшей их природой. Многие наименования растений, животных, грибов, хотя и не отмеченных в словарях в качестве устаревших, оказываются неизвестными носителям языка (в лучшем случае – входят в их пассивный запас), а их референты относятся к более высокому уровню категоризации, на котором видовые или родовые различия обобщаются и становятся нерелевантными:
‘некая трава’, ‘некий кустарник, ‘некая птица’, ‘некий (возможно, ядовитый) гриб’ и т. д. Так, пилотажный опрос носителей французского языка в Лионе весной 2006 г. выявил, что из 357 лексических единиц, включенных в однотомный словарь «Petit Robert», 102 не были известны ни одному из опрошенных и еще 118 оказались известны менее чем 34,5 % опрошенных (опрос проводился на материале фитонимов греческого происхождения, полученных методом сплошной выборки). Те же из них, которые обладали средней или высокой степенью известности, обязаны этому своей востребованностью в современном народном хозяйстве – в том числе как сырье в области медицины, кулинарии и т. д. [Алешина, 2008]. При этом мы отметили, что многие фитонаименования вызывали у респондентов не образ денотата – соответствующего растения, обладающего определенными свойствами, а некий концепт, включающий индивидуальные ассоциации (в том числе литературные, кинематографические и т. п.), а также общие социокультурные стереотипы.
В связи с этим представляется крайне интересным и перспективным провести более подробное сравнительное исследование реакций на стимулы-фитонаименования на материале свободного ассоциативного эксперимента с носителями русского и французского языков (в рамках совместного французско-русского проекта сопоставительного изучения ассоциативных норм 2). Подобное исследование позволит не только выявить специфику этнокультурного восприятия мира представителями разных лин-гвокультур, но и определить место и роль фитолексики в языковой картине мира современных французов и русских.
STUDIES OF PLANT-NAMES AND AN ETHNIC WORLD IMAGE: DEFINING THE PROBLEM