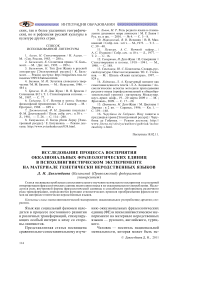Исследование процесса восприятия окказиональных фразеологических единиц в психолингвистическом эксперименте на материале генетически неродственных языков
Автор: Давлетбаева Диана Няилевна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Филологическое образование
Статья в выпуске: 3 (64), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам сопоставительного изучения ментального восприятия и культурной интерпретации фразеологических единиц носителями языка в их окказиональном употреблении. Исследуется роль внутренней формы фразеологической единицы в способности претерпевать различного рода трансформации, определяются функции стилистических приемов преобразования фразеологизмов на материале генетически неродственных языков.
Психолингвистический эксперимент, окказиональное употребление, архетип, стереотип
Короткий адрес: https://sciup.org/147136768
IDR: 147136768
Текст научной статьи Исследование процесса восприятия окказиональных фразеологических единиц в психолингвистическом эксперименте на материале генетически неродственных языков
Язык как социальный феномен находится в процессе постоянного развития и различных трансформаций, стимулирующих особый интерес к нему со стороны лингвистов.
Представленная статья посвящена сравнительно-сопоставительному изуче нию окказиональных фразеологических единиц (ФЕ) в психолингвистическом эксперименте на материале неродственных языков — русского, английского, турецкого.
Человек— носитель национальной ментальности, которая может быть ис-
следована через язык, являющийся важнейшим средством идентификации. Природа окказиональных фразеологизмов обусловливает необходимость их изучения в рамках антропоцентрической направленности. Целью проведенного нами психолингвистического эксперимента стали исследование культурно-национальной специфики окказиональных фразеологизмов, употребляемых в разносистемных генетически отдаленных языках; выявление черт, характерных для русской, турецкой и английской культур, отражающих психологические особенности носителей рассматриваемых языков.
В качестве экспериментального материала было отобрано 35 исходных ФЕ и 35 окказиональных ФЕ из идеографических полей «чувства и состояния», «свойства личности». В первой серии испытуемым предлагалось в письменной форме объяснить значение ФЕ и указать на образные ассоциации, если они возникают с восприятием ФЕ. Поскольку основной задачей было уточнение восприятия ФЕ как когнитивной структуры, вторая серия эксперимента была связана с образным компонентом ее значения. Были использованы метод «незаконченного предложения», метод вербального семантического дифференциала, предложенный Ч. Осгудом, и концептуальноидеографический метод. В третьей серии эксперимента акцент ставился на экспликации механизма культурной интерпретации образного основания окказиональных ФЕ. Так, испытуемым предлагалось оценить по семибалльной шкале (от -3 до +3) наличие того или иного ощущения, представленного прилагательным при каждом окказиональном фразеологическом употреблении. В эксперименте принимали участие студенты из City University (Великобритания), Istek Belde (Турция), а также носители английского и турецкого языков, приезжавшие для обмена опытом в школы России.
В ходе эксперимента предполагалось решение следующих задач:
-
а) определить, как язык в своих эталонах и стереотипах категоризирует национальное видение человека;
-
б) уточнить механизм культурной интерпретации;
-
в) экспериментально проверить гипотезу, согласно которой образное основание ФЕ представляет собой структуру знания, в которую включены денотативный, оценочный, эмоциональный, эмотив-ный, культурный и стилистический компоненты.
По словам Ю. П. Солодуба, «при сопоставлении фразеологизмов различных культурных ареалов этнокультурный компонент позволяет устанавливать как своеобразную, так и схожую их этнокультурную маркированность, что отражается в характеристике самосознания народов» [2, с. 47—48]. Специалисты по этнической психологии, изучающие этнокультурные стереотипы, отмечают, что нации, находящиеся на высоком уровне экономического развития, подчеркивают у себя такие качества, как ум, деловитость, предприимчивость, а нации с более отсталой экономикой — доброту, сердечность, гостеприимство.
В когнитивной лингвистике и этнолингвистике термин «стереотип» относится к содержательной стороне языка и культуры, т. е. им обозначается ментальный стереотип, коррелирующий с «наивной картиной мира». Такой подход встречается в работах Е. Бартминского и его школы, где языковая картина мира и языковой стереотип соотносятся как часть и целое. При этом языковой стереотип понимается как суждение или несколько суждений, относящихся к определенному объекту внеязыкового мира, «субъективно детерминированное представление предмета, в котором сосуществуют описательные и оценочные признаки и которое является результатом истолкования действительности в рамках социально выработанных познавательных моделей» [1, с. 7].
Со своей стороны, мы считаем языковым стереотипом не только суждение или несколько суждений, но и любое устойчивое выражение, состоящее из нескольких слов.
В основе формирования этнического сознания и культуры в качестве регуля- торов поведения человека наряду с врожденными лежат приобретаемые в процессе социализации факторы — культурные стереотипы, которые усваиваются с того момента, как только он начинает идентифицировать себя с определенным этносом, определенной культурой и осознавать себя их элементом. Вероятно, механизмом формирования стереотипов являются когнитивные процессы, потому что стереотипы выполняют некоторые когнитивные функции: схематизации и упрощения, формирования и хранения групповой идеологии и др.
Совокупность ментальных стереотипов этноса известна каждому его представителю.
Культуросфера определенного этноса содержит ряд элементов стереотипного характера, которые, как правило, не воспринимаются носителями другой культуры. Эти элементы принято называть лакунами: все, что в инокультурном тексте реципиент заметил, но не понимает, все, что кажется ему странным и требующим интерпретации, служит сигналом присутствия в тексте национально-специфических элементов культуры, в которой создан текст, а именно лакун.
Мы полностью разделяем точку зрения В. Н. Телия о том, что «способом указания на характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет является интерпретация образного основания в знаковом культурнонациональном „пространстве11 данного языкового общества, то есть соотнесение образа, выраженного в буквальном прочтении фразеологизма, с эталонами, стереотипами, мифологемами и установками культуры, что и составляет содержание культурной коннотации» [3, с. 24].
Очевидно, что для ряда ФЕ, имеющих архетипический характер, механизм культурной интерпретации образного основания может быть уточнен. Мы считаем, что он состоит в его соотнесении с архетипическими образами, т. е. с образами, значимыми для данной культуры, благодаря которым передаются культурный опыт и «базовое» представление о мире, присущее данной лингвокультурной общности. Так, фразеологиз му «как мышь мокрый» в значении «сильно вспотеть» в русском языке в турецком соответствует «kan ter iginde kalmak» — букв. «остаться в крови и поту», а в английском — «sweat like a pig» — букв. «вспотеть как свинья». Благодаря «архетипическому ключу», уже заключенному в образном основании идиом, эти образы способны соотноситься с глубинными структурами психики, с тем, что К. Юнг назвал коллективным бессознательным.
Восприятие ФЕ происходит на нескольких уровнях:
-
— рациональном, когда образное основание фразеологизма ассоциируется с денотатом;
— индивидуально-психологическом, когда это основание вызывает в сознании некоторый образ (основанный на буквальном прочтении образа или связанный с ситуацией употребления);
— глубинном, когда образное основание ФЕ или его элементы ассоциируются с архетипическими образами.
Необходимо заметить, что образы, лежащие в основании ФЕ, имеющих архетипический характер, обеспечивают построение общего, идентичного для носителей языка культурного пространства, которое является условием адекватного общения представителей данной лингвокультурной общности. Носители языка владеют культурным кодом, благодаря которому они интерпретируют значение ФЕ не только осознанно, но и на уровне бессознательного.
В рамках культурно-национального изучения языков нас интересует национальная специфика выбора образного средства для номинации человека. Эта проблема особенно актуальна сейчас, так как долгое время все национальные проблемы подвергались сглаживанию, нивелировке.
Известно, что концептуальное осмысление категорий культуры находит свое воплощение в естественном языке. Так, народный менталитет и духовная культура воплощаются в единицах языка прежде всего через их образное содержание. Одним из ярких образных средств, способных дать ключ к разгад- ке национального сознания, являются окказиональные фразеологизмы.
Психолингвистический эксперимент помогает определить национальные языковые картины мира в их объективной реальности и вскрыть культурно-национальную специфику трех народов. Экспериментальные данные позволяют выделить стереотипы, ставшие штампами, которые характерны именно для носителей данного языка, данной культуры. Сопоставление русского, английского и турецкого экспериментального материала нацелено на выявление сходных и различных реакций при восприятии окказиональных ФЕ.
«Эля! — вскрикнул Мукомолов. — Не переводи разговор, мне нечего бояться. Я пуганый воробей , старый поживший пес. Я хочу знать» (Ю. Бондарев. «Тишина»).
An old hand at smth (англ.) — стреляный воробей ; «.but the old hands told me that I should never be any real good at it, and advised me to give it up» (J. K. Jerome, «Three Men in a Boat») (...стреляные воробьи сказали мне, что я никогда не преуспею в этом, и посоветовали оставить эту затею).
Gun gormu°, devran surmu° (тур.) — стреляный воробей ; « G и n go rm й§, devran surmu ° ; Eski toprak bu, tecrubeli... Kolay degil aldatip uyutmak; Baksana adam kagin kur’asi » (M. E. Saragba°i. «I. Minnetoglu Turkge Deyimler Sozlug^u») (Он стреляный воробей ; старой закалки, бывалый. Нелегко усыпить его бдительность; Посмотри-ка, пуганая ворона).
Очевиден тот факт, что окказиональный образ воспринимается тремя народами более развернуто, ярко, чем образ исходной ФЕ, который не осознается так подробно и, вероятно, актуализируется в редуцированном виде как гештальт-структура.
Образ — категория сознания, обладающая такими свойствами, как целостность и синтетичность, проявляющимися в том, что образ объединяет данные, поступающие по разным каналам связи человека с миром, и формируется восприятием, памятью, воображением, накопленными впечатлениями. Образ включает в себя идеальные (содержательные) черты, что позволяет искать в нем истоки и предпосылки семиотических концептов, так как он способен обобщать накопленный опыт.
Исходя из ответов испытуемых можно сделать вывод, что ментальный образ переживается в самых разных модальностях: зрительных, слуховых, осязательных и т. д., иными словами, он является полимодальным. Формирование образа спонтанно и непроизвольно.
Нами было замечено, что у носителей русского языка образы-ассоциации, возникающие при восприятии окказиональных ФЕ, более разнообразны, чем у носителей турецкого. Последние прибегают к образам, связанным с природными явлениями, мифологическими персонажами. Носители русского языка гораздо чаще используют образы из области литературы и фольклора, а также реминисценции. Под реминисценциями мы понимаем не только прямые цитаты, но и имена персонажей, отдельные слова, напоминающие о конкретных ситуациях в тексте. В плане переживаемых эмоций следует отметить, что турецкий народ более эмоционален по сравнению с англичанами, которым свойственна некоторая сдержанность в ответах.
Значение исходной ФЕ представляется более кратким и сухим, чем значение окказиональной ФЕ, которая вызывает больше чувств и переживаний. Образ в любом случае присутствует в сознании, потому что именно он вызывает эмоциональность.
Данные эксперимента позволяют говорить о том, что контекст, в котором функционируют окказиональные ФЕ, помогает догадаться о конвенциональном значении фразеологизмов. Ответы испытуемых часто характеризовались подбором синонимов к авторскому окказиональному преобразованию ФЕ. Замечено, что окказиональные ФЕ, представленные в контексте, носили более выразительный характер в ответах испытуемых, чем ФЕ без контекста. Следует отметить, что эмоции разнились в ходе восприятия ФЕ вне контекста и окказиональной ФЕ в контексте.
Типичность образов, лежащих в основании значения фразеологизмов, а также включенность в их состав символа, эталонов и установок культуры, отражающих миропонимание, присущее данной лингвокультурной общности, свидетельствует о том, что ФЕ — плод коллективных представлений. Более того, учитывая невозможность осмысливания ФЕ исходя только из индивидуального опыта, образность этих единиц языка, их способность побуждать испытывать те или иные чувства, эмоции и отношения, общность которых и позволяет установить культурную идентичность носителей языка, допустимо предположить, что ФЕ и есть коллективные представления.
Коллективные представления понимаются нами как психические состояния, отличающиеся крайней эмоциональной интенсивностью, которые не только мыслятся, но и переживаются в качестве комплекса интеллектуальных, эмоциональных и моторных компонентов. Они принадлежат к архаическому способу мышления, поэтому и фразеологизмы должны порождаться и восприниматься архаическими структурами сознания, которые сосуществуют наряду со структурами логическими. Для подобного типа сознания характерны синкретизм психических процессов, конкретность и образность мыслительных процессов, своеобразная логика, не предполагающая существование причинно-следственных отношений, а основанная на законе «соприча-стия», подразумевающем отождествление объекта и субъекта.
Исходная ФЕ не является продуктом, создаваемым в акте коммуникации. Она воспроизводится в речи в готовом виде, в ней уже заложены иллокутивная сила и перлокутивный эффект. Говорящему остается идентифицировать свои интенции с тем, что конвенционально закреплено за идиомами при нормативном их использовании и восприятии. С этим свойством фразеологизмов и связана их способность служить культурно-языковыми стереотипами. Что касается окказиональных ФЕ, то их косвенные значения и цели высказывания конвенционально закреплены, предписаны и предопре делены структурой и назначением контекста. Как справедливо замечает С. М. Толстая, «соотношение прямого и косвенного смысла носит в этом случае вполне устойчивый, стереотипный характер^ Оно как бы введено в прагматическую рамку текста и воспроизводится вместе с ним» [4, с. 36—37].
Заметим следующую закономерность: на окказиональные ФЕ с положительной коннотацией, обозначающие черты характера, испытуемые дают больше разнообразных ответов, чем на ФЕ, передающие отрицательные черты характера, где ответы более однообразны, стереотипны. На первый взгляд, это противоречит общеизвестному факту: все негативное в языке фиксируется подробнее, тщательнее, разнообразнее. Однако при более глубоком рассмотрении становится ясно, что ФЕ с негативной оценкой, поскольку их больше, членят континуум картины мира на меньшие отрезки, т. е. более точно.
Сопоставление русского, английского и турецкого материала показало, что многие значения окказиональных ФЕ вызывают сходные образы-ассоциации, но даже в этом случае их «профиль» достаточно различен. В силу отдаленности культур и языков национально-языковое сознание англичан и турок имеет несколько разные эстетические идеалы.
Как показали экспериментальные данные, национальная языковая личность воспринимает любой предмет не только в его пространственных измерениях и времени, но и в его значении, которое включает в себя культурные стереотипы и эталоны. Поскольку члены определенной национальной общности смотрят на мир и воспринимают его сквозь данные стереотипы, это находит свое отражение и закрепляется в языке с помощью языковых стереотипов и эталонов. Эталон здесь — некий идеализированный стереотип, который на социальнопсихологическом уровне выступает как проявление нормативных представлений о человеке, мире, обществе.
Количественный анализ стереотипов, возникших в ходе эксперимента, позволяет заметить, что в русском языковом сознании стереотипизированных выражений намного больше, чем в турецком.
Таким образом, окказиональные ФЕ способны выполнять роль стереотипов культуры, задающих нормы и образцы действий, состояний, ситуаций.
Процесс восприятия окказиональных ФЕ можно рассматривать как процесс решения практической задачи: является ли эта задача творческой для носителя языка? Знает ли носитель языка конвенциональное значение фразеологизма? Как известно, носители языка руководствуются разными культурными установками при описании значения образного основания окказиональных ФЕ. Ответы испытуемых свидетельствуют, что компоненты личностного смысла присутствуют как в русской ментальности, так и в турецкой. Сравнительный анализ показал, что понимание значения окказиональной ФЕ и присутствие личностного смысла — два разных, но сосуществующих уровня репрезентации значения в сознании носителей языка. Следовательно, образ всегда открыт для новой интерпретации и подвержен семантическим изменениям. Однако в ответах представителей турецкого народа преобладает неконвенциональная интерпретация образа, который «вычерпывается» из окказионального преобразования ФЕ.
Мы предполагаем, что механизмы когнитивной обработки образного основания фразеологизма работают одновременно, так как отвечают за различные аспекты значения окказиональной ФЕ. Образное основание выступает не только как основание для концептуализации и категоризации объективной действительности, но и в роли эмоциогенного, мотивирующего стимула, «подсказки» для культурной интерпретации значения ФЕ, вызывающей эмотивное отношение носителя языка.
Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения национально-культурной специфики русских, английских и турецких окказиональных ФЕ, послужить основой для многоязычных словарей.
Окказиональные фразеологизмы обладают способностью «уплотнять»
смысловое содержание высказывания или текста за счет большого количества ассоциативных связей. Как замечает Н. И. Толстой, «одновременная разнозна-ковость, вызванная общей тенденцией к максимальной синонимичности, к повторению одного и того же смысла, одного и того же содержания разными возможными способами... своеобразное нанизывание отдельных форм. может выражаться в трех основных обликах: реальном (предметном), акциональном (действенном) и вербальном (речевом)» [5, с. 57—58].
Представляется, что способ мышления, связанный с восприятием ФЕ, во многом наследует архаические формы мышления, особенностью которых служит алогичность, проявляющаяся в том, что оно функционирует на основе закона партиципации, или сопричастия, предполагающего отождествление субъекта и объекта.
Восприятие окказиональных ФЕ подчинено трем параллельно протекающим процессам: первый связан с реакцией носителей языка на буквальное прочтение образа и актуализацией глубинных структур сознания, второй — с логическими структурами сознания, которые обеспечивают метафорическое прочтение образа, третий — с погруженностью субъектов в контекст культурных смыслов при определенном уровне их культурно-языковой компетенции в целом.
С учетом степени научной разработанности проблемы мы можем предположить, что исследование будет полезно как для студентов-пользователей, так и для преподавателей иностранных языков.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
-
1. Бартминский, Е. Этноцентризм стереотипа: результаты исследования немецких (Бохум) и польских (Люблин) студентов в 1993—1994 гг. / Е. Бартминский // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии : тез. докл. всерос. науч. конф. — М., 1995. — С. 7—9.
-
2. Солодуб, Ю. П. Текстообразующая функция символа в художественном произведении / Ю. П. Солодуб // Филол. науки. — 2002. — № 2. — С. 46—55.
-
3. Телия, В. Н. Взаимодействие языка и культуры : учеб. пособие / В. Н. Телия. — М. : Языки русской культуры, 1996.
-
4. Толстая, С. М. К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора / С. М. Толстая // Образ мира в слове и ритуале:
-
5. Толстой, Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Н. И. Толстой. — М. : Индрик, 1995. — 510 с.
Балканские чтения I. — М., 1992. — № 4/5. — С. 33—45.
Поступила 27.06.11.