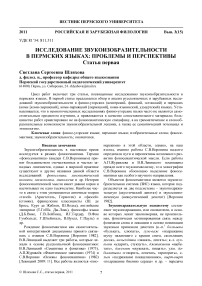Исследование звукоизобразительности в пермских языках: проблемы и перспективы. Статья первая
Автор: Шляхова Светлана Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
Цикл работ включает три статьи, посвященные исследованию звукоизобразительности в пермских языках. В первой статье предлагается обзор и анализ русскоязычных и зарубежных исследований звукоизобразительности в финно-угорских (венгерский, финский, эстонский) и пермских (коми [коми-зырянский], коми-пермяцкий [пермяцкий], коми-язьвинский, удмуртский) языках. Устанавливается, что в немногочисленных исследованиях финно-угорские языки часто не являются самостоятельным предметом изучения, а привлекаются в качестве сопоставительного материала; большинство работ ориентировано не на фоносемантическую специфику, а на грамматические и словообразовательные возможности звукоизобразительной лексики, а также ее семантический потенциал и этимологию.
Финно-угорские языки, пермские языки, изобразительные слова, фоносемантика, звукоизобразительность, ономатопея
Короткий адрес: https://sciup.org/14729028
IDR: 14729028 | УДК: 81'34:
Текст научной статьи Исследование звукоизобразительности в пермских языках: проблемы и перспективы. Статья первая
Вводные замечания
Звукоизобразительность в настоящее время исследуется в рамках фоносемантики. Термин «фоносемантика» (введен С.В.Ворониным) принят большинством отечественных и частью западных лингвистов, однако в мировой практике существуют и другие названия данной области исследований: фоносемика, лингвистический иконизм, мимологика, мимология и др. История фоносемантической мысли имеет давние корни и насчитывает не одно тысячелетие. Наиболее часто в связи с этим упоминаются античные теории «тесей» (Аристотель, Гермоген) и «фюсей» (стоики), французские классицисты (Ш. де Бросс, Курт де Жеблен, Ш.Нодье), английские эмпирики (Т.Гоббс, Дж.Локк), философы языка (Д.Б.Вико, Г.В.Лейбниц, И.Г.Гердер, В.Фон Гумбольдт, Г.Штейнталь, В.Вундт, Г.Пауль) и др.
Рождение фоносемантики как самостоятельной интегративной дисциплины принято связывать с именем С.В.Воронина [Воронин 1982]. В.В.Левицкий выделяет три работы, которые лежали в основе русскоязычной фоносемантики: В.В.Левицкий «Семантика и фонетика» (1973), А.П.Журавлёв «Фонетическое значение» (1974) и С.В.Воронин «Основы фоносемантики» (1982) [Левицкий 2009: 11]. Все работы являются «пио- пермские языки; изобразительные слова; фоносе-нерскими» в этой области, однако, на наш взгляд, именно работы С.В.Воронина надолго определили пути и перспективы возможного развития фоносемантической мысли. Если работы А.П.Журавлева и В.В.Левицкого посвящены прежде всего звукосимволизму, то в монографии С.В.Воронина обосновано выделение фоносемантики как особого научного направления.
Объектом фоносемантики является звукоизобразительная система (ЗИС) языка, которая подразделяется на две подсистемы – звукоподражательную (акустический денотат) и звукосимволическую (неакустический денотат) [Воронин 1982].
Звукоподражательную подсистему составляют звукоподражания, или ономатопеи, в основе которых лежит закономерная, не произвольная, фонетически мотивированная связь между фонемами слова и лежащим в основе номинации звуковым признаком денотата (к.-п.1 болльыны «булькать, хлюпать», гуж-важ «подражание шуму падающего с крыши снега, скользящих досок», кальскöтны «звякать, лязгать»; к.-з. куч-кыны « ударить, стукнуть», дживакывны « щебетать», дзизгыны « жужжать, пищать»; удм. да-быльтыны «говорить, лепетать, тараторить», к-хым «подражание покашливанию», вырт-вырт «подражание биению сердца» и др. – передача
речевым звуком звука неречевого). Звукоподражательная подсистема представляет в языке акустический денотат , который состоит из нескольких классов и типов звучаний. Термины, используемые для ономатопей в пермистике, – подражательные слова, звукоподражания, имитати-вы .
Звукосимволическую подсистему составляют звукосимволические слова; в основе их – закономерная, непроизвольная, фонетически мотивированная связь между фонемами слова и полагаемым в основу номинации незвуковым признаком денотата, т. е. передача речевым звуком образа, ощущения, движения, впечатления от обозначаемого предмета. Эта подсистема представляет в языке неакустический денотат (к.-п. люш-ляш код «о сильной степени опьянения», шув-пав пырны «зайти быстро, стремительно, уверенно»; букыш-букын ветлöны «ходить, отставив зад», гигнь-гогиня «зигзагообразный, извилистый», лешки-вошки «о состоянии крайнего возбуждения», люг-лег «о чем-л. шатком»; к.-з. дзим-дзурк «опрятно, аккуратно», дiöн-дiöн «неравномерно, островками», пусь-пась «вдребезги»; удм. жом-жом «выраж. состояние, когда сильно промокнет», тыр-пар «о вертлявом человеке или животном», ыш-ыш-ыш «выражает ощущение холода» и пр.). В основе номинации звукосимволического слова лежат признаки объектов, воспринимаемые в любой модальности человека, кроме слуховой (зрение, вкус, осязание, обоняние, органические ощущения и пр.). Термины, используемые в пермистике, – образоподражательные, образно-подражательные, наречно-изобразительные, изобразительные слова .
Следует подчеркнуть, что в теории звукоизо-бразительности финно-угорских языков (в отличие от индоевропеистики) никогда не происходило смешения звукоподражательности и звуко-символизма. Даже самые первые классификации четко разделяют эти сферы.
Из истории изучения звукоизобразительности в финно-угорских языках
История зарубежной и русской фоносемантики подробно представлена во многих фундаментальных исследованиях [Журавлев 1974; Воронин 1982, 1990; Михалёв 1995; Левицкий 1998, 2009; Павловская 2001; Magnus 2001; Шляхова 2003; Прокофьева 2008 и др.].
Известно множество библиографических списков, среди которых можно отметить списки: Sean A. Day [Day 2005] по исследованию синестезии; университетов Amsterdam (Нидерланды) и Zürich (Швейцария) по иконизму в лингвистике [Iconicity in Language 2004]; университета Graz (Австрия) по редупликации [Bibliography of reduplication]; Shelly Wynecoop и Levin Golan из Carnegie Mellon University (Питсбург, США) по синестезии и фонестемии [Wynecoop, Golan 1996]; Kimi Akita из Токийского университета [Akita 2010] и John J. Ohala из Cambridge University (США) [Ohala 1983] по звукосимволизму. Однако данные списки не включают славяноязычные работы.
Особенно активно фоносемантические исследования проводятся в Японии, Европе и США, однако среди огромного количества литературы последних десятилетий по тем или иным аспектам фоносемантики нами было обнаружено незначительное количество работ на материале финно-угорских языков. Так, в список 2010 г. Kimi Akita включено около 1050 наименований, среди них лишь 9 работ на материале финноугорских языков (венгерский, финский, эстонский), из них – два доклада на конференциях [Jaaskelainen 2010; Pinter 2003].
Наиболее полный список существующей литературы и интернет-ресурсов по звукоизобрази-тельности представлен в библиографическом списке американской исследовательницы М.Магнус [Magnus], куда включены и русскоязычные работы (Н.И.Жинкин, А.Г.Бандура-швили, А.И.Моисеев, С.В.Воронин, В.В.Левиц-кий, А.П.Журавлев, Б.М.Галеев, Э.Вельди, А.Б.Михалев, С.С.Шляхова, Л.П.Прокофьева и др.). Во всех перечисленных списках исследования по пермским языкам отсутствуют.
Можно отметить следующие работы, посвященные языкам финно-угорской группы: волжские – мордовский [Имайкина 1968], марийский [Гордеев 1961, 1981]; обско-угорские – венгерский [Skalička 1935; Скаличка 1967; Gombocz 1914; Bencze 1991; Allport 1935; Левицкий 1977; Pinter 2003]; пермские [Batori 1969; Тараканов 1990а, 1990б, 1998; Шибанов 2006а, 2006б] – коми-зырянский [Сахарова 1947, 1949; Бубрих 1948; Лудыкова 1992; Шибанов 2010]; коми-пермяцкий [Кривощекова-Гантман 1962, 1964; Шляхова, Петрова 2000]; удмуртский [Алатырев 1947, 1983; Соколов 1973, 1996; Тараканов 1998; Максимов 1994; Шибанов 2008, 2009]; прибалтийско-финские [Mikone 2001] – финский [Anttila 1975, 1976, 1997; Хакулинен 1955; Дубровина, Герд 1979; Austerlitz 1994; Yoshikawa 1989; Jarva 2001; Беликова 2004]; эстонский [Пылма 1967; Вельди 1988, 1989].
Данные по звукосимволизму венгерских звуков находим в работах В.В.Левицкого [Левицкий 1977, 2009]. Так, по шкале «маленький – большой» венгерские гласные расположены в следующем порядке: /h/, /ts/, /p/, /t/, /f/, /j/, /k/, /v/, /b/,
/l/, /g/, /n/, /z/, /tš/, /m/, /ž/, /d/, /š/, /s/, /r/; гласные – /i/, /e/, /a/, /y/, /u/, /o/ [Левицкий 2009: 26–27].
В.В.Левицкий упоминает работу венгерского исследователя И.Фонадя [Fonagy 1961]. Разделив стихотворные произведения Шандора Петефи на 6 «ласковых» и 6 «агрессивных», И.Фонадь установил, что большинство звуков встречается в обеих группах текстов с приблизительно одинаковой относительной частотой. Однако частота некоторых звуков существенно отличалась в каждой из двух групп: /l/, /m/, /n/ чаще встречаются в «нежных» произведениях, а /t/, /k/ и /r/ – в «агрессивных» [Fonаgy 1961: 194–195]. В целом такое распределение повторилось, по подсчетам И.Фонадя, в текстах Верлена, Гюго и немецкого поэта Рюккерта [Левицкий 2009: 144].
В.В.Левицкий также упоминает о работе С.Эртеля [Ertel 1969], который в материал экспериментального исследования объективного зву-косимволизма включил и финно-угорские языки. По мнению В.В.Левицкого, «С.Эртель допустил существенный методический просчет, поставивший под сомнение результаты проведённого исследования. Он отбирал и группировал подлежащие исследованию языки не по лингвистическому, а по географическому признаку (языки Азии, Африки и т. п.), в результате чего в его списке оказалось четыре славянских языка (из них два близкородственных), три индоиранских (из них два близкородственных – хинди и урду), два финно-угорских и только один тюркский и т. д.» [Левицкий 2009: 60–61].
В вышеназванных исследованиях финноугорские языки часто не являются самостоятельным предметом изучения, а привлекаются в качестве сопоставительного материала как неродственные языки по отношению к основному предмету исследования: английского и венгерского [Allport 1935]; германских и эстонского [Вельди 1989]; английского и эстонского [Veldi 1994]; венгерского и еще восьми неродственных языков [Левицкий 1977]. Кроме того, звукоизо-бразительность этих языков часто рассматривается в рамках общего исследования [Gombocz 1914; Хакулинен 1955; Алатырев 1947; Дубровина 1972; Олыкайнен 1981; Лудыкова 1992; Меркушева 2003; Федина 2001, 2005; Суббота 2009; Панюков 2010], не связанного с фоносемантическими аспектами.
Так, В.М.Лудыкова исследует осложненное глагольное сказуемое, выраженное сочетанием основного глагола и изобразительного или звукоподражательного глагола в коми языке. Автор указывает на отсутствие подобной конструкции в индоевропейских языках, что создает пробле- мы, а часто и невозможность их перевода [Луды-кова 1992].
Л.Хакулинен обращает внимание на то, что финский язык крайне богат звукоподражательными словами, и отмечает особую роль изобразительных слов в языке. Он утверждает, что «эта категория слов настолько многообразна и жизненна, что ее следует считать одной из наиболее характерных особенностей словарного состава финского языка». По его мнению, эти «дескриптивные слова приближаются к музыке в том отношении, что при образовании значения большую роль в них играет чувство, тонкие художественные различия оттенков чувственного восприятия, чем логическое выражение сущности понятия», что характерно для так называемых первобытных народов [Хакулинен 1955: 18–23]. Исследователь отмечает архаичность звукоизо-бразительности как таковой, ее древнюю природу.
Не случайно «отец современного «высокого» фэнтези» Дж.Р.Р.Толкин базой для «новых» языков («Властелин колец» и др.) выбрал финский (для квэнийского) и валлийский (для синдарин-ского) языки. Это косвенно указывает на то, что финно-угорские языки в современной синхронии показывают высокую степень сохранности при-марной мотивированности. Профессор Дж.Р.Р.Толкин, зная несколько десятков языков, составлял свои языки, во многом опираясь на фоносемантические критерии: «лично меня здесь больше всего интересуют, наверное, форма слова как таковая и взаимосвязь звучания слова с его значением (так называемое фонетическое соответствие)» [Толкин 1998]. Сын Дж.Р.Р.Толкина Кристофер (издатель наследия отца) пишет, что его отец не просто придумывал новые слова, а производил их от исходных корней-основ [Tolkien 1967]. Дж.Р.Р.Толкин чувствует сохранность «первобытной» силы финского языка.
В этом контексте чрезвычайно интересной представляется интерпретация детских считалок коми В.А.Панюкова, который «реконструирует интертекстуальный путь от заумного текста к его смысловому восприятию». По мнению автора, «в силу того, что восприятие (осмысление) такого текста не может опираться на лексикосемантический уровень … семантический поиск переключается с линейного лексического содержания на парадигматику: осмысляются извлекаемые из текста звукосмысловые ассоциации». Далее происходит «мобилизация интертекстуальной активности», выход «в сферу традиционных фольклорных смыслов», проекция «заумного текста на элементарные сюжетные темы, характерные для фольклорной традиции: сюжеты о рыбалке, сюжеты об охоте и т. п. Такая прототипичность смысловых аттракций может стать источником ложной архаизации подобных фольклорных явлений» [Панюков 2010: 93, 96]. Стратегия «звукосмысловых ассоциаций» указывает на «семантичность» звуковой «абракадабры», которая поддерживается стратегией «архаизации», пусть даже и ложной. Данная трактовка зауми согласуется с нашей концепцией «другого» языка [Шляхова 2005], ядром которого является заумь.
Заумная речь понимается как нелинейная са-моструктурирующаяся среда, где автономные свойства знаков, заданные на биологическом уровне, репрезентируются в разного рода дискурсах – обрядово-игровой и магически-религиозный; идиолектная заумь; «говорение» при патологиях речи и в состояниях измененного сознания и пр. Все исследователи указывают на ту или иную степень координации зауми с родным языком носителя. Заумь – либо говорение на одном из известных древних или современных языков (мистическое говорение), либо «новая» форма речи (поэтическая и детская речь). В «другой» речи актуализирована языковая периферия во всех ее проявлениях. Заумные подсистемы в любой пространственно-временной и социокультурной парадигме возникают как сопоставимые (изоморфные) системы [Шляхова 2005]. Можно считать, что Дж.Р.Р.Толкин и дети в создании «других» языков идут одним путем, который согласуется с фоносемантическим законом стадиальности развития языка (от натуральной стадии к конвенциональной).
В.В.Левицкий считает, что не все языки в равной степени обладают звукосимволическими свойствами, и выстраивает следующий ряд по мере убывания звукосимволического признака: финно-угорские; тюркские, индонезийские, эвенкийский, нивхский, японский, грузинский; одно из последних мест занимают китайский и тамильский [Левицкий 2009: 85]. Очевидно, что сохранность и значимость звукоизобразительных свойств в финно-угорских языках чрезвычайно высока, однако это свойство исследовано в фин-но-угроведении, на наш взгляд, недостаточно глубоко.
Специальные работы, посвященные финноугорской звукоизобразительности, ориентированы не на фоносемантическую специфику, а на грамматические и словообразовательные возможности звукоизобразительной лексики, а также ее семантический потенциал и этимологию [Skalička 1935; Сахарова 1947, 1949; Кривощеко-ва-Гантман 1962, 1964; Пылма 1967; Имайкина 1968; Дубровина 1972; Алатырев 1983; Лудыкова
1992; Соколов 1996; Тараканов 1998; Шибанов 2006а, 2005б, 2009, 2010; Гордеев 1981]. Собственно фоносемантические подходы в сфере неакустического денотата представлены в работах: [Allport 1935; Левицкий 1977; Bencze 1991]; в сфере акустического денотата – у [Вельди 1988, 1989; Беликова 2004].
Важным шагом в развитии фоносемантики финно-угорских языков можно считать исследования З.Гомбоца [Gombocz 1914] и В.Скалички [Skalička 1935; Скаличка 1967].
З.Гомбоц приводит критерии идентификации звукоизобразительных слов для этимологизирования их в своем словаре [Gombocz, Melich 19141936]: 1) незначительное географическое распространение; 2) отсутствие таких слов в старых словарях и письменных памятниках; 3) фонетическая вариативность ( ballog, bullog «медленно идти, семенить»). Автор выделяет две группы звукоизобразительных слов: hangutánzó szavak (звукоподражательные слова) и hangfestö szavak (звукоописывающие слова) [Gombocz 1914].
Очевидны противоречия в данных критериях идентификации: отсутствие тех или иных единиц в письменных памятниках не отменяет их существования в языке; фонетическая вариативность часто напрямую связана с локальностью бытования и пр. Некорректные критерии выделения звукоизобразительных слов приводят З.Гомбоца к тому, что он отрицает, например, связь венг. gágogni «гоготать» с уд. gagäkt , саамск. gakket , морд. gagan , kagan [Gombocz 1914: 387]. Однако в целом работы З.Гомбоца явились важным шагом в исследовании венгерских ономатопей и звукосимволических слов, поскольку в этимологическом словаре устанавливаются целые фоносемантические гнезда на основе звукоизобразительного корня.
Широкую известность получила работа В.Скалички «Исследования венгерских звукоподражательных выражений» (1935), где ставится вопрос и природе ономатопей, а также подвергаются критике практика и теория этимологизирования ономатопей З.Гомбоцем [Skalička 1935; Скаличка 1967]. Автор касается фонетической и фонологической сторон звукоподражательных слов; определяет звукоподражательность как «отношение элементов означаемого и означающего, базирующихся на соотносительности их свойств», отмечает, что «слова, обладающие значительным элементом звукоподражания, повторяются в различных языках» [Скаличка 1967: 284].
Особое внимание В.Скаличка уделяет аномальности (фонетической и грамматической)
звукоподражательных слов; рассматривается также их эмоциональный компонент и развитие звукоподражательным корнем большого числа «незвуковых» значений.
Можно считать, что в работе В.Скалички пунктирно намечены основные вопросы современной фоносемантики: проблемы синестезии, звукоизобразительные функции фонем, примар-ная мотивированность, аномальность и маргинальность звукоизобразительных слов, их этимологизирование, фоносемантическое поле и пр.
E.Mikone считает, что активное изучение идеофонов языков прибалтийско-финской группы относится к 20-30-м гг., интерес к проблеме усилился к 70-м гг. ХХ в. в работах R.Anttila (финский) и E.Veldi (эстонский), которые считаются «пионерами» в этой области. E.Mikone рассматривает финские и эстонские идеофоны в аспекте их количественной фиксации в словарях, частеречной принадлежности, типичных инициальных фонестем и аффиксов, частичной и полной редупликации [Mikone 2001].
Активные фоносемантические исследования в финно-угорских языках пермской группы начали проводиться с середины XX в. Работы по звуко-изобразительности пермских языков не носят фундаментального характера (преимущественно формат научной статьи). Сегодня уже можно считать классическими работы М.А.Сахаровой, Д.В.Бубриха, А.С.Кривощековой-Гантман.
Д.В.Бубрих в статье «К проблеме изобразительной речи» (1948) описывает формальную и семантическую стороны изобразительных слов. Автор рассматривает глаголы, превратившиеся в суффиксы изобразительных глаголов (- кывны передает длительность звучания; - мунны – мгновенность звучания или «звучащего» действия и пр.). К фонетическим свойствам изобразительных слов он относит редупликацию («удвоенные изобразительные слова»), вариативность гласного, фонетическую аномальность (начальное сочетание согласных), некоторую семантическую зависимость отдельных фонестем ( -рск-, -лск-, -льск- имеют связь с глаголами на -кыны / -гыны и др.).
В работе Д.В.Бубриха рассматривается также вопрос о семантическом потенциале изобразительных слов. В отличие от неизобразительных знаменательных слов, изобразительные слова имеют несколько иной обобщающий характер. Он считает, что «обобщающая сила изобразительных слов чрезвычайно мала. Для них нет просто ходьбы, а есть бесчисленное количество всяких способов хождения» [Бубрих 1948: 91].
Ср. к.-п. питькыр-питькыр, питкыль-питкыль (питькыр-питькыр пырис керкуö «(пе- реваливаясь) вихляясь зашёл в дом»); сунбан-сунбан «изображение покачивания, запинания, шатания»; лешкыны-вöтчыны «с трудом успевать плестись за кем-л»; букыш-букын ветлöны «ходить, отставив зад»; быгыль-быгыль мунны «семенить (о полном низкорослом человеке)»; лешкыны-котöрны «бежать грузно, устало»; люшкыны-мунны «идти тяжело, еле двигая ногами»; лёздыр-баздыр мунны «идти медленно (о высоком)» и пр.
Далее Д.В.Бубрих поднимает проблему изобразительной речи и стоящего за ней нагляднообразного мышления: «изобразительные слова – будь они взяты из коми языка или любого иного – это как раз тот речевой материал, который пригоден для изучения наглядно-образного мышления в точном значении этого термина» [там же: 94]. По сути, автор отмечает древнюю природу данных языковых единиц. Также он полагает, что «будучи проникнутыми действенным содержанием, они по семантике сопоставимы с деепричастиями» [там же: 85].
Богатый звукоизобразительный материал был собран М.А.Сахаровой, составившей рукописный словарь изобразительных слов коми-зырянского языка. В статье М.А.Сахаровой «Изобразительные слова в коми языке» (1949) представлена характеристика изобразительных слов. Из фонетических особенностей отмечается их способность выступать парами с варьированием гласного. По морфологическим признакам изобразительные слова М.А.Сахарова сближает с наречиями. В работе приводится большой материал о словообразующей роли этих слов и о составе суффиксов, с помощью которых от изобразительных слов образуются изобразительные глаголы, прилагательные и существительные.
Фоносемантические аспекты коми-пермяцкого языка стали объектом исследования в работах А.С.Кривощековой-Гантман [Криво-щекова-Гантман 1962, 1964]. Автор фиксирует наиболее употребительные коми-пермяцкие слова: звукоподражательные («воспроизведение аффективных выкриков, звуковых особенностей речи человека, криков животных и звучаний живой и неживой природы») и образоподражательные («изображения с помощью звуков речи двигательных образов, движений, состояний, качеств предметов») [Кривощекова-Гантман 2006: 40, 46].
А.С.Кривощекова-Гантман последовательно рассматривает основные семантические, фонетические и грамматические особенности этих слов и определяет их место в системе частей речи коми-пермяцкого языка: «изобразительные слова не могут отождествляться с наречиями, хотя у них имеются и общие черты», «изобразительные слова не сливаются с междометиями в один разряд слов, так как между ними имеются значительные различия» [Кривощекова-Гантман 2006: 54–55].
Автор отмечает сходство и различия между изобразительными словами и междометиями. Сходство между теми и другими выражается в отсутствии номинативной функции. Различия между изобразительными словами и междометий, по мнению А.С.Кривощековой-Гантман, состоят в том, что фонетическая структура изобразительных слов сложнее, чем междометий (первичных); изобразительные слова в большинстве случаев выступают в виде повторов; класс изобразительных слов во много раз богаче разряда междометий; в отличие от изобразительных слов, междометия не могут быть членом предложения и не связаны со знаменательными словами и др. [там же: 54 и след.].
Автор дает подробную характеристику звукоизобразительных слов коми-пермяцкого языка, намечая при этом и фоносемантические характеристики данного класса лексики: «звуковой состав изобразительных слов очень часто непосредственно связан с природой воспроизводимого звучания». Так, «наличие в конце слова смычных согласных звуков, которые нельзя тянуть, указывает обычно на прерываемость действия, а также на резкость или мгновенность воспроизводимого звучания: чильк-чольк – подражание временами прерываемому течению слабой тонкой струи жидкости; дзильк-дзольк – подражание отрывистому течению более сильной и толстой струи жидкости, чем предыдущая; звирк керис «мелькнул», швырк летiс «моментально исчез (вышел)» [там же: 41].
По мнению А.С.Кривощековой-Гантман, «языковые (фонетические) особенности накладывают на слуховое восприятие известный отпечаток. Именно этим обусловлен тот факт, что одинаковые звуки у разных народов часто передаются различным образом в языках. Так, в звоне колокольчика русский слышит динь-динь-динь , а коми-пермяки звуки такого же колокольчика воспроизводят как силь-силь-силь , отсюда силькан «колокольчик». В мяуканье кошки русские Верхнего Прикамья улавливают мяв-мяв , отсюда мявкать «мяукать», коми-пермяки – няв-няв . Особенности их языка (отсутствие мягкой фонемы [м']) не позволяют копировать кошачье мяуканье как мяв-мяв , а звуковой комплекс мяв-мяв , по их представлениям, менее соответствует для этой цели, чем няв-няв » [Кривощекова-Гантман 2006].
С точки зрения фоносемантики, нельзя говорить о большом различии приводимых примеров. Несмотря на то что мяв-мяв и няв-няв на первый взгляд не совпадают, в их состав входят общие фонемотипы: сонорные носовые (м, н) и губнозубной (в). Ср.: укр. нявкання, нявчання ; англ. mewing, miaow ; нем. Miauen ; фр. miaullment ; итал. miagolio ; исп. maullido , maullo ; алб. mjaullin ; тур. miyav «мяукать, мяуканье».
В составе динь-динь и силь-силь общие фоне-мотипы – сонорные (м, н) и узкий гласный (и). Ср. схожий фонемотипный состав в других языках: звук удара о металлическое, стеклянное; звяканье, звон: англ. ting, tang, bong ; груз. kumkum-i ; баск. binban ; кхмер. ча:нг-ча:нг ; чув. панн, тан ; япон. pin, pon , chon; бурят. тинн; индонез. letang; тур. dan .
А.С.Кривощекова-Гантман также говорит о процессах заимствования в сфере звукоподражаний, отмечая, что бесспорными заимствованиями из коми-пермяцкого языка в пермских говорах являются слова: гыжи-важи (Ил., Кар.) ‘подражание звукам царапанья, чесания’, отсюда гыжгаться ‘чесаться, царапаться’; к.-п. гыжьясьны ‘то же’; гыжьявны ‘сцарапать, расцарапать, чесать’. В основе перечисленных слов коми гыж ‘ноготь, коготь, копыто’; ср. удм. ги-жы ‘то же’; дзили-дзоли (Ил., Кар.) подражание течению жидкости. Дзолькать ‘журчать, течь тонкой струей в сосуд или выливаться из него’. Ср. к.-п. дзиль-дзоль, дзили-дзоли лэдзчыны или дзольгыны-лэдзчыны ‘то же’ [там же] и др.
Представляется, что говорить о бесспорных заимствованиях звукоподражаний не совсем корректно. Так, справедливы замечания в этимологизировании звукоподражательных слов в диалектах Русского Севера: вакуша «лягушка» сопоставляется с прибалтийско-финскими языками, однако «семантика «квакать» на основе исходной «каркать, кричать (о птицах)» могла появиться как в языке-источнике, так и на русской почве» [МСФУСЗ 2004 1: 54]; бреньгать «трепать шерсть» сопоставляется с финским заимствованием, однако «не исключено, что финские слова заимствованы из русского, а брень-гать – обратное заимствование из финского источника» [там же: 35].
Безусловно, какая-то часть ономатопей может заимствоваться (напр., слова с начальным дз-, тш-, дж- (джурум-джурум «о перемещении белки по дереву»), скорее всего, в русских (прикамских) говорах будут заимствованиями), однако первообразные звукоподражания относятся к базовому коммуникативному фонду как в филогенезе, так и в онтогенезе речи, поэтому нельзя безусловно говорить о заимствованиях в области звукоподражаний.
А.С.Кривощекова-Гантман считает также заимствованиями из коми-пермяцкого русские звукоподражания грыз-грыз или гырс-гырс «подражание скрежету зубами». К.-п. гырс-гырс «то же». От этого звукоподражательного комплекса гырскать «издавать скрежет зубами»; гырскать-ся «скрежетать»; ср. к.-п. гырскыны «то же», к.-язв. гөрскинө «грызть (напр. сухари)» [там же]. Однако рус. грызть – звукоподражательного происхождения [Черных I: 224]. Ср. коми гырс-гырс керны «грызть»; гичыр-гичыр, гирчыг-гирчыг «срежет зубов»; лит. dzir -; тадж. гарч -; мал. gores -; араб. SRR «скрип, скрежет».
Ср. также: к.-п. кула-кола «шум волны»; рус. гыл-гыл, квуль-квуль, кувыль-кувыль ; тадж. кул-к , якут. кыл-к , мал. gelekok , араб. LKLK «бульканье, плеск».
К.-п. гульс-гульс , рус. глотать, глоток (зву-коподр. [Фасмер I: 415]), глы ( Глотая, он издавал звуки, очень похожие на звук «глы» – А.Чехов. «Цветы запоздалые»); лит. kluk -; тадж. култ-к ; якут. кулк «глотание».
К.-п. буз-баз «бултых», баз-баз «буль-буль», базнитны «ударить»; базгисьны «падать с грохотом»; базгыны-лыйны «бахнуть, грохнуть»; рус. диал. бузы-базы «звук резкого движения жидкости», базгать «ударять, стучать»; япон. zabu-z «плеск»; словен. bzíkati «с силой брызгать».
В представленном выше материале говорить о заимствованиях в столь различных языковых ареалах, на наш взгляд, не представляется возможным. Хотя, безусловно, нельзя исключать влияния смежных языков.
Тем не менее в любом случае работы А.С.Кривощековой-Гантман вносят большой вклад в развитие коми-пермяцкой фоносемантики.
В удмуртском языке изобразительные слова исследует И.В.Тараканов в работе «Изобразительные и подражательные глаголы в удмуртском языке» (1990). Автор отмечает древнюю природу имитативов («восходят к эпохе до образования былых и современных национальных языков»), рассматривает наиболее продуктивные суффиксы в изобразительных глаголах, их исторические аспекты [Тараканов 1998: 188–194].
В последнее время наблюдается рост интереса к данной проблеме [Максимов 1994; Соколов 1996; Беликова 2004; Шибанов 2006а, 2006б, 2009, 2010]. Сегодня в пермистике правомерно, на наш взгляд, ставится вопрос о выделении изобразительных слов в самостоятельный лексикограмматический разряд. Д.В.Бубрих сближает изобразительные слова с деепричастиями,
М.А.Сахарова – с наречиями, а А.С.Кривощекова-Гантман последовательно отделяет их и от наречий, и от междометий. А.А.Шибанов, исследуя проблему подражательных слов в системе частей речи в удмуртском языке, настаивает на их выделении из других лексико-грамматических групп, тогда как «в настоящее время данная категория слов относится к категории наречия» [Шибанов 2010: 133]. В работах по пермским языкам материалом исследования часто является диалектный материал [Максимов 1994; Шибанов 2009], а также поэтический дискурс [Шибанов 2008].
Однако достоверность и убедительность фоносемантических данных возрастает в разы при исследовании различных языков по общим методикам. Настоящий обзор показывает, что перми-стика не включена в контекст мировых исследований, однако и мировая наука не знакома с работами специалистов по пермским языкам.
RESEARCH OF SOUND ICONICITY IN PERMIC LANGUAGES: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Article one
Svetlana S. Shlyakhova
Professor of General Linguistics Department
Perm State Teachers' Training University
Список литературы Исследование звукоизобразительности в пермских языках: проблемы и перспективы. Статья первая
- Алатырев В.И. Краткий грамматический очерк удмуртского языка//Удмуртско-русский словарь/под ред. В.М.Вахрушева. М.: Рус. яз., 1983. С.586.
- Алатырев В.И. Междометно-наречные повторы в удмуртском языке//Учен. зап. ЛГУ № 105. Л., 1947. Вып. 2. С.216-236.
- Беликова А.Е. Семантика глаголов звучания в финском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Петрозаводск, 2004. 26 с.
- Бубрих Д.В. К проблеме изобразительной речи//Учен. зап. Карело-Фин. ун-та. Исторические и филологические науки. 1948. Т.3, вып.1. С.85-94.
- Вельди Э.А. O некоторых чертах германского происхождения в звукоподражательной лексике эстонского языка//Проблемы фоносемантики. М., 1989. С.35-36.
- Вельди Э.А. Англо-эстонские параллели в ономатопее: автореф. дис.... канд. филол. наук. Тарту: Тарт. ун-т, 1988. 21 с.
- Воронин С.В. Основы фоносемантики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. 244 с.
- Гордеев Ф.И. Подражательные слова//Современный марийский язык. Морфология. Йошкар-Ола, 1961. С.308-313.
- Гордеев Ф.И. Подражательные слова и этимология//Вопр. марийской диалектологии. 1981. С.138-147.
- Дубровина З.М. Инфинитивы в финском языке. Л.: Изд-во ЛГУ. 1972. 208 с.
- Дубровина З.М., Герд А.С. Изобразительные и звукоподражательные глаголы прибалтийско-финского происхождения в русских говорах Карелии//Сов. финно-угроведение. Таллин, 1979. XV. Вып.4. С. 245-247.
- Журавлев А.П. Фонетическое значение. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 160 с.
- Имайкина М.Л. Наречно-изобразительные слова в мордовском языке: дис. … канд. филол. наук. Тарту: Тарт. ун-т, 1968. 16 с.
- Кривощекова-Гантман А.С. Изобразительные слова. Кудымкар, 1962. С.44-70. (В помощь учителю).
- Кривощекова-Гантман А.С. Собрание сочинений. Т.1: Грамматика, диалектология, лексика и фразеология, проблемы развития языка. Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2006. 246 с.
- Кривощекова-Гантман А.С. Место изобразительных слов в системе частей речи коми-пермяцкого языка//Вопр. финно-угорского языкознания. Грамматика и лексикология. М.; Л., 1964. С.112-121.
- Левицкий В.В. Звуковой символизм: Мифы и реальность. Черновцы: Рута, 2009. 186 с. [Авторский электронный вариант].
- Левицкий В.В. Звуковой символизм: Основные итоги. = Sound symbolism: Principal results. Черновцы, 1998. 129 с.
- Левицкий В.В. Объективный и субъективный звуковой символизм в финно-угорских языках//Исследования финно-угорских языков и литератур: тезисы докл. всесоюз. науч. совещ. Ужгород: УГУ, 1977. С. 42.
- Лудыкова В.М. Изобразительные конструкции в коми языке//Пермистика 3: Диалекты и история пермских языков: сб. ст. Сыктывкар, 1992. С.92-100.
- Максимов С.А. О наречно-изобразительных словах с конечным -ы в северном наречии//Вестн. Удм. ун-та. 1994. № 7. С. 22-25.
- Меркушева Т.Н. Лексика флоры и фауны южного наречия коми-пермяцкого языка: автореф. дис.... канд. филол. наук. Ижевск, 2003. 33 с.
- Михалев А.Б. Теория фоносемантического поля. Пятигорск, 1995. URL: http://amikhalev.ru/? page_id=59 (дата обращения: 25.05.2011). МСФУСЗ 2004, I - Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера. Вып 1 (а-и) / под ред. А.К.Матвеева. Екатеринбург, 2004.
- Олыкайнен В.М. Описательные глаголы в финских диалектах в аспекте лексикологии//Прибалтийско-финское языкознание. Вопр. лексикографии. Л., 1981. Вып. 6. С. 13-16.
- Павловская И.Ю. Фоносемантический анализ речи. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2001. 292 с.
- Панюков А.В. К вопросу о самоорганизации зауми (на материале коми считалок)//Вестн. Челяб. гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. 2010. Вып. 49, № 34 (215). С.93-99.
- Прокофьева Л.П. Звуко-цветовая ассоциативность в языковом сознании и художественном тексте: универсальный, национальный, индивидуальный аспекты: дис.... докт. филол. наук. Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2008. 442 с.
- Пылма В.А. Звукоизобразительные глаголы в эстонском литературном языке: автореф. дис.... канд. филол. наук. Таллин, 1967. 45 с.
- Сахарова М.А. Изобразительные слова в коми языке//Научная конференция по вопросам финно-угорской филологии. 23 янв. -4 февр. 1947 г.: тез. докл. Л.: ЛГУ, 1947. С.57-58.
- Сахарова М.А. Изобразительные слова в коми языке//Сов. финно-угроведение. Ижевск: Удмуртгосиздат, 1949. Т. 4.
- Скаличка В. Исследование венгерских звукоподражаний//Пражский лингвистический кружок. М., 1967. С.277-316.
- Соколов С.В. Названия птиц в удмуртском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту: Тарт. гос. ун-т, 1973. 18 с.
- Соколов С.В. Пышкылон (звукоподажательные) кылъес но междометиос//Вордскем кыл. 1996. № 4. С.69-73.
- Суббота К.А. Глагол в ижемском диалекте коми языка: грамматические категории и словообразования (на материале казымского говора): автореф. дис.... канд. филол. наук. Йошкар-Ола, 2009. 18 с.
- Тараканов И.В. Изобразительные и подражательные глаголы в удмуртском языке//Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. IB: Sessiones plenares et symposia. Debrecen, 1990а. S.209-214.
- Тараканов И.В. Изобразительные и подражательные глаголы в удмуртском языке//Тараканов И.В. Исследования и размышления об удмуртском языке. Ижевск: Удмуртия, 1998. С.188-194.
- Тараканов И.В. Подражательные и изобразительные глаголы в пермских и волжских финно-угорских языках//Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 2A: Summaria dissertationum: Linguistica. Debrecen, 1990б. S.254.
- Толкин Дж.Р.Р. Тайный пророк//Знание-Сила. 1998. №6. C. 148-157.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Прогресс, 1986-1987.
- Федина М.С. Парные слова коми языка в лексикографическом аспекте//Вопр. коми филологии: сб. науч. ст. Сыктывкар: Изд-во Сыктыв. ун-та, 2005. С.111-116.
- Федина М.С. Семантика парных глаголов в коми языке//Пермистика 8: Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками: сб. ст. Сыктывкар, 2001. С.261-265.
- Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. Ч.II.
- Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М., 1993.
- Шибанов А.А. Изобразительные слова в пермских языках//Пермистика XI: диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками: сб. ст. Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2006б. С.265-270.
- Шибанов А.А. Наречия и подражательные слова в удмуртском языке//Вестн. Челяб. гос. ун-та. Филология Искусствоведение. 2010. Вып. 49, №34 (215). С.133-137.
- Шибанов А.А. О функционировании некоторых наречно-изобразительных и звукоподражательных слов северного диалекта удмуртского языка//Русский Север и восточные финно-угры: сб. ст. Ижевск: [б. и.], 2006а. С.390-393.
- Шибанов А.А. Об изученности изобразительных слов в северном наречии удмуртского языка//Пермистика Х: вопр. пермской и финно-угорской филологии: сб. ст. Ижевск: Удм. ун-т, 2009. С.383-389.
- Шибанов А.А. Функционирование звукоподражательных слов в стихах и поэмах Кузебая Герда//Кузебай Герд и современность: материалы междунар. науч.-практ. конф. Ижевск: Бон Анца, 2008. С.119-122.
- Шляхова С.С. «Другой» язык: опыт маргинальной лингвистики. Пермь: Перм. гос. техн. ун-т, 2005. 350 с.
- Шляхова С.С. Тень смысла в звуке: Введение в русскую фоносемантику. Пермь: Перм.гос. пед. ун-т, 2003. 216 с.
- Шляхова С.С., Петрова С. Коми-пермяцкие акустические ономатопы (материалы к универсальной классификации ономатопов)//Коми-пермяцкий язык и литература во взаимодействии с другими языками, обновление методики их преподавания. Кудымкар, 2000. С.58-60.
- Akita K. A Bibliography of Sound‐Symbolic Phenomena Outside Japanese. Bibliography B. 2010. URL: http://docs.google.com/viewer?a=v& pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxha2l0YW1ib3xneDozZDNjNjBlNWRlZGU4ZGEy (дата обращения: 25.05.2011).
- Allport G. Phonetic Symbolism in Hungarian Words. Cambridge, Harvard University, 1935. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html> (дата обращения: 16.05.2010).
- Anttila R. Affective vocabulary and borrowing: Finnish pirskottaa «sprinkle» and patistaa «urge, prod.»//Journal of Finnish Studies. 1997. Vol.1(2). Р.111-114.
- Anttila R. Affective Vocabulary in Finnish: an(other) Invitation//Ural-altaische Jahrbücher. 1975. Vol.47. Р.10-19. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (дата обращения: 19.04.2010).
- Anttila R. Affectivis [-deskriptivis-onovatopoieettis]ten sanojen asema kielen merkkisysteemissä//Virittäjä. 1976. Vol.2. Р.126-131.
- Austerlitz r. Finnish and Gilyak sound symbolism -an interplay between system and history//Sound Symbolism/Eds. L. Hinton, J. Nichols, J. Ohala. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Р.249-260.
- Batori I. Wortzusammmensetzung und Stammensetzung im Syrjanischem mit Berucksichtigung des Wotjakischen Ural-altaishce Bibliothek. Wicsbaden: Otto Harrasowitz, 1969. 170 s.
- Bencze L. Iconicity in Hungarian Grammar//Proceedings of LP '90, Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Bohumil Palek and Pøemysl Janota. Prague: Charles University Press, 1991. Р.157-162.
- Bibliography of reduplication. Institute of Linguistics, University of Graz. URL: http://reduplication.uni-graz.at/> (дата обращения: 25.05.2011).
- Day Sean A. Synesthesia bibliography. 2005. URL: http://home.comcast.net/~sean.day/syn-bibliography. htm (дата обращения: 25.05.2011).
- Ertel S. Psychophonetik (Untersuchungen über Lautsymbolik und Motivation). Göttingen, 1969. 230 S.
- Fonagy J. Communication in Poetry//Word. 1961. Vol.17, №2. Р.194-218.
- Gombocz Z., Melich J. Magyar etimológiai szótár. Budapest, 1914-1930. Ч.1.
- Iconicity in language: Bibliography. 2004. URL: http://es-dev.uzh.ch/en/iconicity/index.php?subac tion=showfull&id=1197027659&archive=&start_from=&ucat=2& (дата обращения: 25.05.2011).
- Jaaskelainen A. 2010. What motivates ideophone constructions? Paper for the Eleventh Biannual International Cognitive Linguistics Conference. URL: http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxha2l0YW1ib3xneDozZDNjNjBlNWRlZGU4ZGEy (дата обращения: 25.05.2011).
- Jarva V. Some expressive and borrowed elements in the lexicon of Finnish dialects//Ideophones/F. K. E. Voeltz, C. Kilian-Hatz (Eds.). Typological studies in language 44. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin's Press, 2001. Р.111-120.
- Magnus M. Bibliography of Phonosemantics. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetter Page/Bibliography.html (дата обращения: 16.05.2010).
- Magnus M. Gods of the word: Archetypes in the Consonants. Kirksville: Thomas Jefferson University Press. MO. 1998. 357 pp.
- Mikone E. Ideophones in the Balto-Finnic languages//Ideophones/F. K. E. Voeltz, C. Kilian-Hatz (Eds.). Typological studies in language 44. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin's Press, 2001. Р. 223-234.
- Ohala J.J. Bibliography on Sound Symbolism//Phonology Laboratory, University of California, Berkeley, 1983. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (дата обращения: 16.05.2010).
- Pinter G. Hangariigo-no nizyuu-ziin [Double consonants in Hungarian]. Paper presented at a meeting of Japanese Ural Society, 5 July 2003. URL: http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites &srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxha2l0YW1ib3xneDozZDNjNjBlNWRlZGU4ZGEy (дата обращения: 25.05.2011).
- Skalička V. Studie o mad'arských výrazech onomatopoických//Sborních filologický. 1935. Vol. XI. Р.75-101.
- Tolkien J.R.R. The Road Goes Ever On: A Song Cycle. Poems by J.R.R. Tolkien. Music by Donald Swann. With decorations by J.R.R. Tolkien. Boston: Houghton Mifflin Company, 1967. 67 [1] pp.
- Veldi E. Onomatopoeic Words in Bilingual Dictionaries (with Focus on English-Estonian and Estonian-English). Dictionaries//Journal of the Dictionary Society of North America. 1994. Vol.15. Р.74-85. URL: http://www.trismegistos.com/Magical LetterPage/Bibliography.html (дата обращения: 18.03.2010).
- Wynecoop Sh., Golan L. 1996. A bibliography of synesthesia and phonesthesia research. URL: http://www.flong.com/texts/lists/list_synesthesia_bibliography/(дата обращения: 25.05.2011).
- Yoshikawa T. Finrandogo-no giseigo [Onomatopoeia (giseigo) in Finnish]. Nihongo-kyooiku [Journal of Japanese language teaching]. 1989. v.68. Р.136-139. URL: http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxha2l0YW1ib3xneDozZDNjNjBlNWRlZGU4ZGEy> (дата обращения: 25.05.2011).