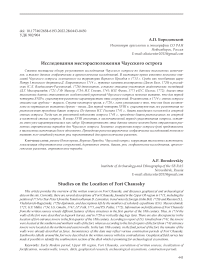Исследования месторасположения Чаусского острога
Автор: Бородовский А.П.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени
Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обзору результатов исследования Чаусского острога по данным письменных источников, а также данных геофизических и археологических исследований. В настоящее время известно несколько описаний Чаусского острога, основанного на территории Верхнего Приобья в 1713 г. Среди них челобитная царю Петру I томского дворянина Д. Лаврентьева в 1714 г., путевые заметки иностранных (Джон Белл, 1720) и российских (С.Л. Владиславич-Рагузинский, 1726) дипломатов, а также описания участников академических экспедиций (Д.Г. Мессершмидт, 1721; Г.Ф. Миллер, 1734; И.Г. Гмелин, 1741; И.П. Фальк, 1771 и П.С. Паллас, 1772). Анализ этих письменных данных относительно особенностей укреплений Чаусского острога позволил выявить, что для первой четверти XVIII в. существуют различные характеристики этих сооружений. В частности, в 1714 г. стены острога описаны как срубные - тарасы. Спустя некоторое время, в 1720 г. есть упоминание о том, что они были изготовлены из вертикально вкопанных бревен - тына. Для первой четверти XVIII в. существуют так же разночтения по расположению проездных башен острога. По данным И.Г. Гмелина 1741 г., башни находились на южной и северной стенах острога. Тогда как по ремонтной ведомости острога 1743 г., проездные башни располагались на северной и восточной стенах острога. В конце XVIII столетия, в заключительный период существования острога, остатки стен уже характеризовались как забор. Противоречивость этих данных вполне может быть отражением различных строительных периодов для Чаусского острога. Земляные сооружения вокруг острога (ров) представлены в письменных источниках более однозначно. Проведение рекогносцировочных геофизических исследований позволило выявить юго-западный участок рва, перспективный для археологических раскопок.
Раннее новое время, верхнее приобье, чаусский острог, корреляция письменных источников, локализация оборонительных сооружений, деревянные стены, башни, ров, геофизические исследования, археологические раскопки, строительные периоды
Короткий адрес: https://sciup.org/145146442
IDR: 145146442 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0443-0450
Текст научной статьи Исследования месторасположения Чаусского острога
Среди разновидностей археологических памятников русские остроги в Сибири – одни из самых проблемных при их поиске и выявлении. В современной отечественной археологической литературе отмечены сложности локализации острогов как по письменным источникам, так и по данным археологических исследований. Поскольку эти пограничные пункты существовали как правило не долго, часто переносились с места на место и впоследствии потом застраивались долговременными населенными пунктами (деревнями и городами). Одним из таких объектов является Чаусский острог, расположенный на левобережье р. Оби в Колыванском р-не Новосибирской обл. (рис. 1). С первой трети XVIII и начале XIX столетия Чаусский (Чауской) острог представлен на целом ряде картографических материалов 1736, 1771, 1777, 1794, 1802, 1823 гг.. [Генеральная карта..., 1736; Карта расстояний…, 1771; Генеральная карта..., 1776; Карта..., 1794; Генеральная карта…, 1802; Карта…, 1823]. Однако масштаб этих картографических материалов не дает оснований для установления реального места расположения Чаусского острога.
Отно сительно Чаусского острога по данным письменных источников и косвенным признакам – случайным археологическим находкам, высказалось несколько предположений. Согласно одному из них (по данным краеведа К.П. Зайцева), этот острог располагался в центральной части с. Чаус [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996, с. 159, рис. 211]. Здесь до сих пор сохраняется его площадка (акт экспертизы от 16.04.96 г. № 1; № в реестре объектов археологического наследия НСО 794/179) [Перечень..., 2015] (рис. 2). По другой версии, острог находился на южной оконечности села и был смыт за продолжительное время паводками [Лобанов, 2013].
Геофизические исследования
На одной из сохранившихся площадок острога – в центре с. Чаус перед началом рекогносцировочных археологических работ были проведены геофизические исследования. Такой подход был уже неоднократно использован на целом ряде сибирских острогов – Умревинском [Бородовский, Горохов, 2009], Албазинском [Албазинский острог, 2019], Нерчинском [Константинов, Оленченко, 2019], а также Так-мыкском [Татаурова, 2014] и Тарханском.

Рис. 1 . Расположение Чаусского острога на территории левобережной Обской (Колыванской) поймы (фото С.А. Борисенко).

Рис. 2 . Площадка Чаусского острога в центре с. Чаус (фото С.А. Борисенко).
Для решения этой задачи д-ром геол.-мин. наук В.В. Оленченко (ИНГГ СО РАН) были проведены предварительные георадарные исследования с помощью георадара ОКО-2 и антенного блока центральной частоты 250 МГц. Геофизические исследования должны были выявить грунтовые остатки оборонительных объектов (рвов, стен, башен), описанных в историче ских источниках XVIII столетия. Сканирование территории Чаусского острога проводилось в перекрестном направлении (С – Ю, З – В) с частотой 1–5 м. Было заложено две серии профилей: 17 – с ВЮВ на ЗСЗ и 16 – с ССВ на ЮЮЗ (рис. 3). Техногенные условия проведения геофизических работ были достаточно непростые. Через территорию проходило несколько ЛЭП, располагалась электроподстанция, проложена асфальтовая дорога и отсыпано несколько грунтовых дорог. На площадке находилось очень много строительного и металлического мусора. В начале нового столетия здесь был проложен газопровод местного значения. В целом визуально никаких границ в рельефе или на местности от исследуемого объекта (острога) не было представлено.
Обзор источников
В настоящее время известно несколько описаний Чаусского острога XVIII в. Среди них челобитная об устройстве острога царю Петру I его осно- вателем – томским дворянином Д. Лаврентьевым в 1714 г., путевые заметки об этом оборонительном пункте иностранными (Джон Белл, 1720) и российскими дипломатами (С.Л. Владиславич-Рагу-зинский, 1726), а также описания участников академических экспедиций (Д.Г. Мессершмидт, 1721; Г.Ф. Миллер, 1734; И.Г. Гмелин ,1741; И.П. Фальк, 1771 и П.С. Паллас, 1772). Существует также ремонтная ведомость деревянных укреплений Ча-усского острога, составленная в 1743 г. (ГАНО, Ф. Д-105, Оп. 1, Д. 6).
Сравнивая все эти письменные источники, следует отметить ряд разночтений в описании деревянных оборонительных сооружений Чаусского острога в различные временные периоды XVIII столетия. Основатель и строитель острога Д. Лаврентьев в 1714 г. пишет царю Петру I о тарасных – срубных стенах, таких как полагалось первым сибирским деревянным городам [Долгова, Резун, 1984, с. 225]. Тогда как, иностранный дипломат Джон Белл в 1720 г. [Русско-китайские отношения…, 1978, с. 502] характеризует эти укрепления как тын – обычные стены для большинства простых пограничных острогов из вкопанных в землю заостренных бревен. Описания Д.Г. Мессершмидта 1721 г. [Messerschmidt, 1962, с. 76] и С.Л. Владис-лавич-Рагузинского 1726 г. [Русско-китайские отношения…, 1990, с. 195] слишком лаконичны, чтобы судить о том, какие были у Чаусского острога

Рис. 3. Совмещение данных геофизических исследований и планиграфии Чаусского острога по описанию И.Г. Гмелина 1741 г.
1–4 – угловые башни; 5, 6 – проездные башни; 7–12 – пять продовольственных и один соляной амбар; 13 – церковь Ильи Пророка; 14 – склад церковной утвари; 15 – караульное помещение; 16 – изба черная; 17– сени; 18 – горница с казенкою и подвалом; 19 – сени; 20 – клеть с погребом; 21 – изба для скота; 22 – судная изба; 23 – цейхгауз; 24 – царский винокуренный погреб (по: [Горохов, 2018. 136 с., илл. 2]).
стены – тарасные (рубленные в сруб) или тыновые (вертикально бревенчатые). Зато в описании академика Г.Ф. Миллера от 1734 г. [Элерт, 1988], который сам на остроге не был, есть указание, что Чаусский острог построен «по образцу Томской крепости», в которой были как тарасные – о сновные стены, так и внешние – тыновые ограждения. Два самых подробных описания Чаусского острога сделаны И.Г. Гмелиным в 1741 г. [Gmelin, 1752, с. 88–90; Долгова, Резун, 1984, с. 225, 226; Горохов, 2018] (рис. 3, 1–21 ). Тем не менее, в этом описании стены острога характеризуются как «вытянутый четырехугольник из лежачих бревен». Такая конструктивная особенность может соответствовать и заплоту. Археологически такая разновидность сооружения стены была выявлена при раскопках Саянского острога на Среднем Енисее [Майничева, Скобелев. Бережен-ко, 2018]. На севере Верхнего Приобья заплотом, по письменным данным, был обнесен Бердский острог [Миненко, 1989, с. 90; Резун, Васильевский, 1989, с. 107] и Сузунский медеплавильный завод [Шаповалов, Росляков, 2013]. Тем не менее вопрос о заплотной конструкции стен Чаусского острога в пер-446
вой четверти XVIII в. о стается гипотетиче ским. Поскольку в ремонтной ведомости от 1743 г. для стен между башнями на стенах указывалось «крыть и починять», что соответствовало наличию крыши у срубных тарасных стен острога [Молодин, Боро-довский, Троицкая, 1996, с. 159].
Для описания И.Г. Гмелина 1741 г. и ремонтной ведомости 1743 г. существуют также разночтения в расположении двух проездных башен. В описании И.Г. Гмелина они находились на южной и северной стенах острога, а в ремонтной ведомости располагались на севере и востоке [Молодин, Боро-довский, Троицкая, 1996, с. 159, рис. 211]. В конце XVIII столетия П.С. Паллас (1772) в своей характеристике стен Чаусского острога уже упоминал только о «развалившемся заборе» [Паллас, 1788, с. 7]. Однако в одном из самых последних официальных документов («Росписной список») о Чаус-ском остроге от 1786 г. упоминалось, что «крепость деревянная, бревенчатая, двустенная, крыта тесом, с шестью башнями о четырех углах, однако от реки Чауса этой стены саженей на десять не имеется…» (ГАТО, Ф. 521, Оп. 1, Д. 1, Л. 280).
Поэтому, исходя из этих данных, рассматривать основания деревянных оборонительных сооружений Чаусского острога вряд ли возможно как реперы для геофизических исследований. В сравнении с ними более надежным о снованием для поиска площадки острога является ров вокруг него, который по сути и является внешней границей этого оборонительного сооружения (рис. 3).
Первое описание рвов и надолбов, сооруженных вокруг Чаусского острога, относится к 1714 г. Боярским сыном Д. Лаврентьевым указывалось «около того острогу с трех сторон – выкопан глубокий ров <…> с южной страны к западу поставлены надолбы до Большого озера (Подкаменного)» [Долгова, Резун, 1984, с. 226]. В двадцатые годы XVIII столетия (1720, 1721, 1726 гг.) упоминания о рвах и надолбах вокруг Чауского острога отсутствуют, что можно объяснить крайней лаконичностью этих характеристик. Такая информация появляется снова только в тридцатые и сороковые годы XVIII века. В частности, в «Росписном списке Чаусского острога» за 1731 г. отмечается «кругом острогу крепость надолбы и рогатины» (ГАТО, Ф. 521. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–2об.). Спустя три года в 1734 г. в описании Г.Ф. Миллера, также есть указание: «вокруг острога протянут ров, вокруг которого еще установлены рогатки и надолбы» [Элерт, 1988]. В 1741 г. И.Г. Гмелин, посетив Чаусский острог, также отметил наличие глубокого рва и углублений от надолбов вокруг него [Gmelin, 1752, с. 88–90]. В 1746 г. на основании указа (№ 232) Томской воеводской канцелярии штык-юнкер Красносельцев проводил ремонт Чаусского острога (ГАНО, Ф. Д-104. Оп. 1. Д. 1.). Острог снова окружили рвом, обнесли надолбами и рогатками [Миненко, 1989, с. 86]. Тем не менее, в официальных описаниях Чаусско-го острога 1755 г. упоминания его оборонительных конструкций, включая земляные, отсутствуют [Романов, 2019].
В связи с вопросом о рве Чаусского острога очень любопытен неатрибутированный план Ча-усского острога первой половины XVIII столетия [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996, с. 158, рис. 210]. На нем ров вокруг Чаусского острога и его посада представлен значительно больших размеров, чем приведено в описании 1714 и 1741 гг. Он протянулся в виде не подпрямоугольной, а трапециевидной земляной конструкции, ограждающей не только площадку острога, но и всего его обширного посада. Это сооружение показано на карте от протоки из оз. Подкаменное в р. Чаус на севере до восточного берега этого водоема, а на юге снова примыкающим к береговой кромке р. Чаус. Такая конструкция явно больше по своим размерам, чем известные параметры Чаусского острога. Лю- бопытно, что аналогичный контур сохраняется на плане с. Чаусского 1831 г. (ГААК, Ф. 50. № 13, св.10 ед. хр. 100, ед. хр. 105). Это обстоятельство позволяет считать его не рвом, а внешней границей всего поселения.
В конце XVIII столетия упоминания о рвах и надолбах Чаусского острога окончательно исчезают из письменных источников. Например, в 1771 г. И.П. Фальк, [Фальк, 1824, с. 431] и в 1772 г. П.С. Паллас [Паллас, 1788, с. 7], проезжая через Чаусский острог, ничего не сообщают в своих описаниях о рвах и надолбах. В последнем «Росписном списке Чаусского острога» от 1786 г. отмечено, что конструкция острога находилась к этому периоду в очень ветхом состоянии (ГАТО, Ф. 521, Оп. 1, Д. 1, Л. 280). Возможно, что к этому времени земляные оборонительные сооружения были засыпаны и полностью утратили свои рельефные признаки. Аналогичные процессы в середине XVIII в. нашли отражение в письменных источниках по Белоярской крепости в Верхнем Приобье. Так, в 1750 г. отмечалось, что ров и надолбы «весьма песком обнесло» [Сергеев, 1975, с. 45]. Учитывая расположение Чаусского острога в Обской пойме, периодически подверженной обильным паводкам, подобные процессы также могли иметь место. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что от рельефа участка Обской (Колыванской) поймы, на котором располагался Чаусский острог, существенно зависело распределение паводковых вод и длительность затопления территорий. До возведения плотины на Новосибирском водохранилище в Колыванской пойме происходило как правило два паводка – весной и в начале лета. Именно этот фактор привел в начале XIX столетия к переносу основного пункта (Колывани) со старого Московского тракта на левобережье р. Оби на более возвышенный участок обской террасы.
Археологические исследования
Рекогносцировочные археологические исследования на территории Чаусского о строга были начаты на юго-западной части его укреплений. В единой сетке было заложено несколько рекогносцировочных раскопов, общей площадью до 20 м2. Дерновая поверхность исследованной площадки Чаусского острога была представлена тонким гумусированным слоем толщиной от 5 до 8 см. Условно материковая поверхность представлена плотным крупнозернистым песчаным оранжеватым грунтом с вкраплениями дресвы различного размера. В центре одного из рекогносцировочных раскопов за пределами траншеи газопровода на площадке Ча-

Рис. 4. Разрез участка западного рва Чаусского острога.
усского острога был зафиксирован профиль участка западного рва (рис. 4). Ширина рва составляла до 1 м, глубина до 0,8 м . Заполнение рва было представлено несколькими последовательно залегающими прослойками, толщина которых составляла от 5 до 12 см. Эти отложения чередовались от серого до светло-оранжевого грунта с вкраплениями светло-желтого песка. На дне рва в сером грунте были представлены достаточно крупные фрагменты черного гумусированного грунта. Профиль рва имел уплощенно-овальные очертания. При этом внешний эскарп рва имел больший наклон, чем его внутренний край.
Заключение
В целом размеры рва Чаусского острога, выявленные в ходе археологических исследований, в сравнении с другими острогами (Умревинский) из Новосибирского Приобья достаточно значительны и соответствуют трем аршинам (213,36 см) или одной косой сажени (2,48 м). При этом значительная слоистость заполнения вскрытого участка западного рва этого о строга соответствует процессу его по степенного заполнения. Подчеркнем, что выявленные параметры вполне соответствуют тем характеристикам рва, которые были представлены в письменных источниках XVIII столетия по Чаусскому о строгу. Таким образом, земляные оборонительные сооружения этого пограничного пункта в отличие от фундаментов (о снований) деревянных конструкций вполне могут быть использованы для определения о сновных границ Чаусского острога.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного проекта № 20-09-42058\20 «Основные особенности развития оборонного зодчества в Сибири в эпоху Петра I».
Список литературы Исследования месторасположения Чаусского острога
- Албазинский острог: История, археология, антропология народов Приамурья. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – 348 с.
- Бородовский А.П., Горохов С.В. Умревинский острог (археологические исследования 2002–2009 гг.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 242 с.
- Генеральная карта Томского уезда 1736 г. РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 140.
- Генеральная карта Тобольской губернии 1802 г. РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 1. Л. 1.
- Генеральная карта канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, составленной в 1777 г. РГИА Ф. 1399. Оп. 1. Д. 224. Л. 1.
- Горохов С.В. Сведения в путевом дневнике И.Г. Гмелина о планиграфии Чаусского острога // Баяндинские чтения. – Новосибирск, 2018. – Т. XIII. – С. 132–136.
- Долгова С.Р., Резун Д.Я. Новое о Чаусском остроге XVIII в. // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. (Археография и источниковедение Сибири). – Новосибирск: Наука, 1984. – С. 224–228.
- Карта 1794 г. «Колывановоскресенским заводам и рудникам, лежащим в Колыванском наместничестве сочинённая из разных специальных карт …». РГИА, Ф. 485. Оп. 5. Д. 480. Л. 1.
- Карта Колывано-Воскресенского Заводского Округа 1823 г. РГИА. Ф. 515. Оп. 71. Д. 3117. Л. 1.
- Карта расстояний Колывано-Воскресенских заводов 1771 г. РГИА, Ф. 485. Оп. 5. Д. 478. Л. 1(1).
- Константинов А.В., Оленченко В.В. Археологическое исследование территории Нерчинского острога. // Записки Забайкальского отделения РГО. – 2019 – Вып. 136. – С. 49–57.
- Лобанов М.Ю. Колывань-Чаус на старых картах и чертежах // Освоение и развитие Западной Сибири в XVI–XX вв.: Мат-лы межрегион. науч.-практич. конф., посвящ. 300-летию Чаусского острога. – Новосибирск: СИБПРИНТ, 2013. – C. 91–95.
- Майничева А.Ю., Скобелев С.Г., Береженко Д.Ю. Реконструкция русских деревоземляных внутрикре-постных построек как знаковых сооружений Сибири XVII–XVIII веков (на примере Саянского острога) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – № 4. – С. 100–108.
- Миненко Н.А. Русские остроги и форпосты на территории Новосибирского Приобья и Барабы // Памятники Новосибирской области. Памятники археологии. Памятники истории. Памятники архитектуры. – Новосибирск: Новосиб. книжн. изд-во, 1989. – С. 80–91.
- Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н. Археологические памятники Колыванского района Новосибирской области // Мат-лы «Свода памятников истории и культуры народов России». – Новосибирск: Наука, 1996. – Вып. 2. – 192 с.
- Паллас П.С. Путешествiе по разнымъ провинцiямъ Россiйскаго государства. Часть третья. Половина вторая. 1772 и 1773 годов. – Санктпетербургъ: при Императорской Академiи Наукъ, 1788. – 481 с.
- Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области. Ч. 2. Объекты археологического наследия. – Новосибирск, 2015.
- Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов. – Новосибирск: Зап. Сиб. книжн. изд-во, 1989. – 304 с.
- Романов П.И. Обветшание и ремонт оборонительных конструкций приобских острогов Томского уезда в XVIII веке. // Баландинские чтения. – Новосибирск, 2019. – Т. 14. – С. 258–262.
- Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы. Т. 1. 1700–1725 / сост. Н.Ф. Демидова, В.С. Мясников. – М.: Наука, 1978. – 703 с.
- Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы. Т. 2. (1725–1727) / сост. Н.Ф. Демидова, В.С. Мясников. – М.: Наука. Главн. ред. вост. лит-ры, 1990. – 668 с.
- Сергеев А.Д. Тайны алтайских крепостей. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1975. – 80 с.
- Татаурова Л.В. Проблемы сохранения и исторической реконструкции объектов культурного наследия в пределах современных населенных пунктов (на примере Такмыкского острога) // Проблемы сохранения историко-культурного наследия: история, методы и проблемы археологических исследований. – Екатеринбург, 2014 – С. 194–196.
- Шаповалов А.В., Росляков С.Г. Крепостные стены Сузунского медеплавильного завода и монетного двора // Освоение и развитие Западной Сибири, XVI–XX век. Мат-лы межрег. науч.-практич. конф., посвящ. 300-летию Чаусского острога. – Новосибирск: СИБПРИНТ, 2013. – C. 175–179.
- Фальк И.П. Полное собранiе ученыхъ путешествiй по Россiи, издаваемое Императорскою Академiею Наукъ, по предложенiю ея президента. Т. 6. Записки Путешествiя Академика Фалька. – Санктпетербургъ: при Императорской Академiи Наукъ, 1824. – 560 с.
- Элерт А.Х. Историко-географическое описание Томского уезда Г.Ф. Миллера (1734 г.) // Источники по истории Сибири досоветского периода. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 59–101.
- Gmelin J.G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1740 bis 1743. – Göttingen: verlegts Abram Vandenhoecks seel. – Wittwe, 1752. – 700 s.
- Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. B. 1: Tagebuchaufzeichnungen, 1721–1722. – Berlin: Akademie-Verlag, 1962. – 380 s.