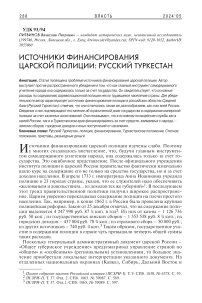Источники финансирования царской полиции: русский Туркестан
Автор: Литвинов В.П.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме источников финансирования царской полиции. Автор выступает против распространенного убеждения в том, что как главный инструмент самодержавного угнетения народа она содержалась только за счет государства. Он свидетельствует, что основные расходы по содержанию дореволюционной полиции несло трудящееся население страны. Для убедительности автор характеризует источники финансирования полиции в российских областях Средней Азии (Русский Туркестан); отмечая, что они отличались таким же разнообразием, как и во всей России. Сведения о них подтверждают его мнение об ограниченной роли государства в содержании имперской полиции за счет казенных ассигнований. Они показывают, что в основном полицейские службы как в самой России, так и в Туркестанском крае финансировались за счет средств, взимаемых с народа, - земских сборов, городских доходов и иных поступлений от населения.
Русский туркестан, полиция, финансирование, туркестанское положение, степное положение, приставы, разъездные деньги
Короткий адрес: https://sciup.org/170206620
IDR: 170206620 | УДК: 93/94 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-5-288-294
Текст научной статьи Источники финансирования царской полиции: русский Туркестан
И сточники финансирования царской полиции изучены слабо. Поэтому у многих создавалось впечатление, что, будучи главным инструментом самодержавного угнетения народа, она содержалась только за счет государства. Это ошибочное представление. После официального учреждения института полиции в царской России правительство фактически изначально взяло курс на содержание его не только на средства государства, но и за счет доходов населения. В апреле 1733 г. императрица Анна Иоанновна учредила полицию в 23 городах страны, указав, что ее служителей надо обеспечивать «жалованьем и довольствием… из доходов тех же губерний»1. В последующем этот тренд правительственной политики получил широкое распространение. Царизм уверенно перекладывал содержание полиции на плечи простого населения. Так, например, в конце 1862 г. в России была проведена крупная полицейская реформа. Закон от 25 декабря отмечал, что на содержание полиции выделяется 4 247 998 руб. 87 ¼ коп. в год2. Из них от казны – 1 126 736 руб. 50 коп.; из государственных земских сборов – 1 553 538 руб. 8 ¾ коп.; из городских доходов – 437 804 руб. 78 ¾ коп.; из страхового сбора – 50 000 руб.; из других источников – 740 руб. 4 коп.3 Таким образом, государственное участие в содержании полиции в стране чуть превышало четверть общей суммы таких расходов.
Поскольку генеральный административный документ царской России – «Общее губернское учреждение» предусматривал управление страной по «общим» и «особенным» (региональным) установлениям, то большое значение приобретали локальные интерпретации указанного документа. На отдаленных национальных окраинах (Кавказ, Сибирь, Дальний Восток и др.) проводилась такая же политика преимущественного содержания полиции за счет средств, взимаемых с населения. Естественно, что российские области в Средней Азии (Русский Туркестан) не были исключением в этом отношении.
Только на основании Туркестанского положения от 6 августа 1865 г. полицейские функции в одноименной области осуществлялись воинскими подразделениями, которые содержались за государственный счет1. Однако уже проект комиссии Холодковского 1866 г. указывал, что расходы на содержание общего управления и уездных полиций «образуются на ожидаемые доходы по Туркестанской области»2. Очевидно, что его авторы хотели внедрить здесь общероссийские принципы финансирования полиции. Степная комиссия, составлявшая проект Временного положения об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской областях 1867 г., полагала иначе и отнесла расходы на полицию за счет Государственного казначейства. Проблема заключалась в том, что полицейские полномочия уездной власти органически сливались с ее административными функциями, а потому она не могла финансироваться иначе. При этом нельзя не отметить, что в данном случае государство экономило средства, т.к. ему не приходилось платить дважды – уездной администрации и уездному полицейскому управлению во главе с исправником, как это было в губерниях «внутренней» России.
Указанный проект 1867 г. не был утвержден в обычном законодательном порядке, и правительство требовало от первого туркестанского генерал-губернатора К.П. Кауфмана его усовершенствования. В 1871 и 1873 гг. он предложил два варианта его изменения и дополнения. Первый из них расходы на содержание полиции полностью относил за счет средств населения3. Второй указывал: «Содержание полицейских управлений в городах Ташкенте, Самарканде и Ходженте, всего в количестве 44 400 рублей относятся на городские доходы»4. В других городах осуществлялся такой же подход к финансированию местной полиции. Несколько иным был принцип содержания полиции в центре Семиреченской области – г. Верном. Во всеподданнейшем отчете за время своего управления краем Кауфман писал, что «по недостаточности городских доходов содержание Верненской полиции при этом должно быть принято на счет казны…Что касается Ташкентской городской полиции, содержание ее могло быть полностью отнесено на городские средства»5 ( курсив наш. – В.Л .).
После смерти Кауфмана в 1882 г. новым туркестанским генерал-губернатором стал прославленный завоеватель Средней Азии Генерального штаба генерал-лейтенант М.Г. Черняев, неприязненно относившийся к режиму предшественника и инициировавший проведение ревизии края правительственной комиссией во главе с тайным советником Ф.К. Гирсом. Она, в частности, выявила, что в Туркестанском крае сочеталось финансирование полиции из средств государственных и доходов населения. Но превалировали последние. Так, например, в 1877 г. Кауфман ввел в Ташкенте Городовое положение
1870 г. и в 1880 г. приказом учредил полицейское управление «русской части» города во главе с городничим в составе 2 приставов, 12 конных полицейских джигитов и делопроизводителя с канцелярией. Характерно, что из них только городничий получал 600 руб. из государственного казначейства, а 983 руб. – из городских доходов. А все остальные сотрудники управления содержались за счет последних. Иное финансирование полиции было в Ферганской области. Полиция в ее центре – Новом Маргилане получала в год 15 900 руб. из средств государственного казначейства. На содержание 6 ферганских административно-полицейских уездных управлений в год тратилось 108 420 руб. в год, но из них только 5 000 руб. из городских доходов. Это было понятно, т.к. область только в 1876 г. была включена в состав Туркестанского края и населена самым фанатичным мусульманским населением, требовавшим постоянного надзора и силового присутствия, что было подтверждено событиями кровопролитного антирусского мятежа в 1898 г. в Андижане. Зато, по словам Гирса, в центре Зеравшанского округа – Самарканде «содержание полиции производится из городских сумм и составляет расход до 7 500 р. в год»1. Семиреченская область не подлежала ревизии, т.к. в 1882 г. была передана из Туркестанского края и военного округа в состав вновь образованного Степного генерал-губернаторства и Омского округа2.
В начале 1880-х гг. административный потенциал, заложенный во Временном положении об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской областях 1867 г., был фактически исчерпан, и перед правительством встала задача разработки нового Туркестанского положения. Для этого была образована специальная правительственная комиссия во главе с видным царским чиновником Н.П. Игнатьевым. Она подготовила Положение об управлении Туркестанским краем, утвержденное царем 12 июня 1886 г. Таким образом, документ получил действительное законодательное утверждение. В примечаниях к штатам управления Туркестанским краем, разработанных ею, указывалось, что содержание полицейских чинов относится к земским сборам и городским средствам края. Предполагалось, что расход на содержание вольнонаемных полицейских служителей в г. Ташкенте будет относиться только на 3 года за счет земских средств, на 4-й год – только на ¾, а остальное – за счет городских средств, на 5-й год – «половина на половину». После 5 лет содержание вольнонаемной полицейской стражи в городе Ташкенте должно было полностью относиться за счет городских средств3.
В Закаспийской области, не входившей в состав Туркестанского края, правительственное Положение об ее управлении устанавливало, что расходы на содержание начальников уездной полиции, участковых полицейских приставов, их помощников следует «удовлетворять за счет взимаемого с туземного населения сбора на общественные нужды»4.
В конце 1897 г. был издан закон о военно-административной реформе в Сибири и Средней Азии5. В состав Туркестанского края и военного округа возвращалась Семиреченская область, и в него впервые включалась Закаспийская область. В каждой из этих областей действовало свое правительственное положение – Степное 1891 г. и Закаспийское 1890 г.
Если между Туркестанским положением 1886 г. и Закаспийским 1890 г. в части финансирования полиции имелись незначительные разночтения, то в Семиреченской области оно было более проблематичным. После воссоединения ее с Туркестанским краем стали возникать противоречивые тенденции, вызванные различием между установлениями Степного положения 1891 г. и нормами Положения об управлении Туркестанским краем 1886 г. Полиция в Семиреченской области финансировалась из земских средств, однако не везде. Так, например, 1 февраля 1903 г. туркестанский генерал-губернатор генерал-лейтенант Н.А. Иванов писал военному министру А.Н. Куропаткину, что 23 августа 1896 г. и 3 октября 1897 г. собрание уполномоченных г. Джаркента вынесло решение ходатайствовать об отнесении содержания городского пристава на земские средства, как это было в других городах Семиреченской области. Иванов отмечал, что после каждого из таких решений джаркентских общественных органов военный губернатор Семиреченской области обращался с соответствующими представлениями к степному генерал-губернатору, но тот отказывал в удовлетворении указанных решений. После последнего отказа джаркентский городской старшина от имени Совета уполномоченных подал жалобу на степного генерал-губернатора в Правительствующий сенат. Тот рассматривал ее долго, но указом от 31 июля 1902 г. (№ 6588) на имя степного генерал-губернатора признал, что он «не имел основания отклонять ходатайства Джаркентского собрания уполномоченных собственной властью»1. К этому времени Семиреченская область пребывала уже под властью Туркестанского края, и вопрос пришлось решать его руководителям.
Генерал-губернатор Н.А. Иванов, ознакомившись с делом джаркентцев, пришел к выводу, что не следует удовлетворять их ходатайства. Он учел то обстоятельство, что в начале 1890 г. правительство постановило освободить жителей Джаркента от платежа налога с недвижимых имуществ в сумме 3 348 руб. за 1889 г., продлить такое освобождение на 4 года – до 1893 г. включительно и «сложить с населения названного города недоимки по тому же налогу за прошлое до 1889 года время, если бы таковые оказались»2. Таким образом, джаркентцы явно старались переложить содержание полицейского пристава на плечи государственной казны.
Вместе с тем Иванов дал указание семиреченскому губернатору разобраться в этом вопросе, поскольку в других городах области полицейские приставы содержались за счет именно земских сборов, а джаркентцы просили того же. Кроме того, Иванов счел необходимым направить все нужные документы в Военное министерство, чтобы оно рассмотрело дело и приняло по нему должное решение.
20 февраля 1903 г. Азиатская часть Главного штаба составила на основании представленных туркестанским генерал-губернатором документов докладную записку по «джаркентскому делу», в которой излагала суть дела и рекомендовала военному министру «признать ходатайство уполномоченных города Джаркента об отнесении содержания полицейского пристава на земские средства не подлежащим удовлетворению»3. Это было неудивительно, поскольку в Главном штабе уже знали, что в Государственном совете рассматривается его законопроект о том, что в Туркестанском крае «рас- ходы по содержанию полицейских команд относятся полностью на средства городов, на обязанность которых остается также отвод и наем городовым помещений, с отоплением и освещением, снабжение этих чинов вооружением (шашками и револьверами) и пользование их в больницах»1. Вместе с тем семиреченские власти выразили сомнение в том, что доходы городов области – Пржевальска, Лепсинска, Джаркента, Копала и др. позволят содержать местную полицию. Особенно большое беспокойство вызывали доходы Лепсинска. Семиреченское областное правление просило генерал-губернатора Н.А. Иванова обратиться по этому поводу в Главный штаб. Тот так и сделал. 21 сентября 1903 года Главный штаб запросил по этому поводу мнение нового министра финансов Э.Д. Плеске. Последний попросил прислать ему смету доходов и расходов г. Лепсинска. Рассмотрев присланную из Главного штаба смету доходов и расходов г. Лепсинска, 30 декабря 1903 г. министр финансов писал Куропаткину, что он не против того, чтобы в Пржевальске и Копале городские приставы содержались за счет городских сумм, а в Лепсинке – пока за счет «нового предельного бюджета Военного министерства в пятилетие 1904–1908 гг.»2. Таким образом, Плеске переиграл военного министра, вынудив того платить за содержание лепсинской полиции из своего кармана, а не Государственного казначейства. Вопрос о содержании городской полиции в Туркестанском крае вскоре решился сам по себе. В ноябре 1904 г. законодатель точно обозначил источник финансирования полиции в городах Туркестанского края: «Содержание полицейских служителей относится на городские средства, включая приобретение оружия и обмундирования и лечение их в больницах»3. Однако в Семиреченской области проблема полностью снята не была. 17 января 1908 г. военный губернатор Семиреченской области генерал-майор В.И. Покотило писал в рапорте туркестанскому генерал-губернатору генералу от инфантерии Н.И. Гродекову, что, по решению общего присутствия Семиреченского областного правления, из смет гг. Копала, Лепсинска, Джаркента и Пржевальска исключены суммы на разъезды полицейских приставов. Вскоре к ним присовокупили и г. Пишпек. Губернатор отмечал, что не согласен с этим решением, но признавал, что по штатам им действительно такие суммы не положены. Вместе с тем Покотило указывал, что в современных условиях осложнения положения нужно повсеместно усилить полицейский надзор, а без разъездных денег для приставов обеспечить его весьма сложно. Он просил возбудить вопрос о разъездных деньгах для семиреченских полицейских приставов перед военным министром. Таким образом, возник вопрос о несоответствии «разъездных» выплат приставам в туркестанских и семиреченских городах.
Следует отметить, что штаты управления Туркестанского и Степного генерал-губернаторств их не предусматривали4. Однако туркестанский генерал-губернатор Н.А. Иванов, понимая значимость оперативного передвижения городских полицейских приставов, в 1902 г. издал приказ о выделении им по 200 руб. в год на разъезды. Он действовал не по собственному произволу, а на основании ст. 13 Туркестанского положения, которая позволяла ему в насе- ленных пунктах, где не было введено Городовое положение, применять меры, присвоенные по закону министру внутренних дел1.
В декабре 1908 г. Азиатская часть Главного штаба подготовила и направила в Правительствующий сенат представление: «По вопросу об отмене постановления Семиреченского по городским делам Присутствия об исключении из городских смет кредитов на разъездные деньги полицейским приставам»2. В нем задавался главный вопрос: действует ли закон от 4 мая 1889 г. после введения в действие Городского положения 1892 г.
Правительствующий сенат рассматривал это обращение почти полтора года, изучая мнения «заинтересованных» учреждений. 26 мая 1910 г. он решил: «Рапорт военного министра… об отмене состоявшихся по настоящему предмету решений большинства членов Семиреченского по городским делам Присутствия оставить без последствий»3. Понятно, что постановление Сената шло наперекор мнению военных, и они с ним не согласились.
28 мая 1911 г. Азиатская часть Главного штаба подготовила докладную записку: «По проекту Сенатского определения по поводу постановлений Семиреченского областного по городским делам присутствия “Об исключении из городских расходных смет разъездных денег полицейским приставам”»4. Она излагала суть дела и историю его развития и прилагала соответствующие документы. Военный министр В.А. Сухомлинов приказал отправить обер-прокурору 1-го департамента Правительствующего сената представление с тем же названием, что и докладная записка.
В Сенате документ обсуждали долго. В феврале 1912 г. он запросил у Главного штаба справку по вопросу о выдаче полицейским приставам в Туркестанском крае разъездных денег и сообщил, что вопрос будет рассматриваться 2 марта 1912 г. 29 февраля 1912 г. Азиатская часть Главного штаба отправила в Сенат справку: «По делу, назначенному к слушанию в Правительствующем Сенате по вопросу о том: могут ли быть выдаваемы из городских средств деньги городским приставам»5. Она предлагала обер-прокурору 1-го департамента Правительствующего сената поддержать предложение военного министерства по отмене решения Семиреченской области по городским делам присутствия и принять постановление о выплате из городских сумм денег на разъезды полицейских приставов в городах Семиреченской области. Однако на заседании 2 марта 1912 г. Сенат принял отрицательное постановление по этому вопросу. Но военное министерство не забыло о своем фиаско и снова направило на рассмотрение в Сенат вопрос о разъездных деньгах полицейских приставов в семиреченских городах. В феврале 1914 г. Правительствующий сенат вновь запросил у Главного штаба справку по этому делу и уведомил, что будет рассматривать его на заседании от 28 февраля 1914 г. 26 февраля 1914 г. Азиатская часть подготовила и направила «Справку» в Правительствующий сенат. На этот раз справка была короче, но подчеркивала, что «по существу же выдача разъездных денег полицейским приставам в городах Семиречья представляется необходимой»6. Однако на заседании 28 февраля 1914 г. Сенат снова отказался удовлетворить ходатайство военного министер ства. Оно пыталось опять продвигать его, но дело завершилось 17 января
1915 г., когда последовал Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского из Правительствующего Сената Военному Министру1. В нем излагались основные вехи обсуждения вопроса, разные мнения и факты, но в заключение указывалось, что «Семиреченское областное по городским делам Присутствие поступило правильно, исключив из расходных смет городов Копала, Лепсинска, Пишпека, Пржевальска и Джаркента разъездные деньги полицейским приставам», и потому «рапорт Военного министра об отмене состоявшихся по настоящему предмету решений большинства членов Семиреченского областного по городским делам Присутствия оставить без последствий». Так, собственно, закончилась история с обеспечением городских приставов в Семиреченской области деньгами на их разъезды по подведомственной территории. Поскольку в Закаспийской области таких проблем не возникало, то вопрос о ней здесь не рассматривается.
Приведенное выше свидетельствует о том, что источники финансирования царской полиции в Русском Туркестане отличались таким же разнообразием, как и во всей России. Сведения о них разрушают стереотипы о преимущественном ее содержании за счет государственных ассигнований. Они показывают, что в основном полицейские службы как в самой России, так и в Туркестанском крае финансировались за счет денег, взимаемых с народа – земских сборов, городских доходов и иных средств населения.