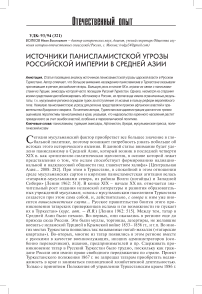Источники панисламистской угрозы Российской империи в Средней Азии
Автор: Волков И.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу источников панисламистской угрозы царской власти в Русском Туркестане. Автор отмечает, что большое внимание насаждению панисламизма в Туркестане оказывали проникавшие в регион российские татары. Большую роль в начале ХХ в. играли их связи с панисламистами из Турции, эмиссары которой часто посещали Русский Туркестан. Однако, несмотря на старания всеми средствами дестабилизировать обстановку в России, их пропаганда имела ограниченные результаты, т.к. мусульмане региона осуждали турок за отступление от ислама в пользу реформ европейского типа. Немалую панисламистскую угрозу для региона представляли происки афганских властей и правительства Бухарского эмирата. По мнению автора, Туркестанская администрация достаточно трезво оценивала перспективы панисламизма в крае, указывая, что недовольство коренного населения растет прежде всего за счет ошибок властей, особенно в переселенческой политике.
Панисламизм, турецкие эмиссары, афганистан, бухара, мусульманская пресса, политический ислам
Короткий адрес: https://sciup.org/170204455
IDR: 170204455 | УДК: 93/94 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-2-248-255
Текст научной статьи Источники панисламистской угрозы Российской империи в Средней Азии
С егодня мусульманский фактор приобретает все большее значение в глобальной политике, поэтому возникает потребность узнать побольше об истоках этого исторического явления. В данной статье внимание будет уделено панисламизму в Средней Азии, который возник в последней четверти ХIX в. как «религиозно-политическая идеология, в основе которой лежат представления о том, что ислам способствует формированию наднациональной и надклассовой общности под главенством халифа» [Центральная Азия… 2008: 282]. При этом в Туркестане, в спокойной в этом отношении среде мусульманских сартов и киргизов панисламистская агитация велась «татарами-мусульманами севера, из района Волги (ногайцы) и Западной Сибири» [Ленин 1962: 513]. В конце XIX – начале ХХ вв. отмечается значительный рост издания исламской литературы и развития образовательных учреждений мусульман; «связь с мусульманским населением Туркестана создается при этом сама собой, и, действительно, с севера к ним уже вносится панисламистская смута... Русское правительство боится этого проникновения татарских приверженцев ислама и по возможности не пускает их в Туркестан» ( курс. авт. – И.В .) [Ленин 1962: 515]. Между тем, татар в Средней Азии было немало. Во-первых, они оказались в регионе еще до прихода сюда России. Это были муллы, торговцы, дезертиры, не желавшие воевать с исламской Турцией в Крымской войне 1853–1856 гг., и т.п. Во многих местах Туркестана появились так называемые ногай-махалля («татарские кварталы»). Во-вторых, многие из татар появились в этом регионе вместе с русскими в качестве военнослужащих, низших администраторов (особенно переводчиков), ишанов, предпринимателей и пр. Сдерживать проникновение татар в Русский Туркестан было трудно, поскольку как граждане России они имели право свободного передвижения по стране. Проект Туркестанского положения 1867 г. не запрещал татарам приобретать недвижимость в крае и заниматься полноценной хозяйственной деятельностью. Только с принятием Положения об управлении Туркестанским краем 1886 г.
для татар ввели запрет в этом отношении1. Однако он действовал не во всех случаях: во-первых, татары нередко покупали недвижимое имущество на подставных лиц из коренного мусульманского населения, во-вторых, в голодные времена в Поволжье татары в массовом порядке двигались в сторону Средней Азии. Особенно много их прибыло в Русский Туркестан в голодную зиму 1891–1892 гг., власти которого принимали их из чувства сострадания и расселяли по территории края. Вместе с тем они смотрели на прибывших даже «более мрачно, чем на деятельность фанатизирован-ных бухарских ишанов»2. Татар подозревали в обмане наивных номадов региона в торговых операциях и распространении среди них идей панисламизма. Отношение к татарам в царских «верхах» было тоже сложным. 15 января 1911 г. глава российского правительства и министр внутренних дел П.А. Столыпин писал в Совет министров, что татары в Туркестанском крае являются проводниками протурецких идей панисламизма3. О том же писал видный российский исламовед и туркестанский деятель Н.П. Остроумов: «Турецкие газеты служат оракулом для татарских»4. Именно в Турцию сбежал один из мусульманских лидеров России татарин Юсуф Акчурин. Здесь он проповедовал идеи панисламизма и пантюркизма. В 1911 г. Акчурин начал издавать журнал «Тюрк урду», а в 1915 г. образовал Комитет защиты прав тюрко-татарских народов России, объявивший своей целью создание независимого Тюркского государства в России после победы над ней Германии и Турции в мировой войне5.
Естественно, власти Османской империи хотели использовать российских татар в своих политических целях. Особое внимание они уделяли Русскому Туркестану с его 95-процентным мусульманским населением. Связь Османской империи с регионом установилась издавна. Она осуществлялась преимущественно через хадж – паломничество мусульман Средней Азии в Мекку, находившуюся на территории Турции, деятельность торговцев, богословов и др. С утверждением русской власти в регионе контакты Турции с Туркестаном стали нарастать. Уже после заключения русско-бухарского договора 1868 г. Турция посылала своих людей в эмират. В конце 1868 г. в Бухаре появился турецкий улем Суави-эфенди – агент Турции и Англии, а вскоре туда же прибыл из Кабула османский пропагандист Шейх Сулейман. В 1876 г. в Семиречье проник турецкий шпион Мухаммед-Али Имам-эфенди, для маскировки собиравший деньги на строительство мечети в Медине. Он был задержан [Россия и Средняя Азия 2013: 205].
Особенно активной деятельность турецких панисламистов в России и Средней Азии стала в начале ХХ в. В 1904 г. в Россию прибыл известный турецкий панисламист Абдул-Рашид Ибрагим-эфенди, здесь он встречался с местными исламистами и подготовил проведение 1-го Всероссийского съезда мусульман. В августе того же года он был арестован российской полицией, однако вскоре был отпущен из-за шумных протестов сторонников и отправ- лен в Константинополь1. Однако его деятельность не была безуспешной – первый мусульманский съезд в России прошел 15 августа 1905 г. в Нижнем Новгороде на пароходе «Густав Струве». Непоседливый панисламист и позже посещал Туркестанский край. Здесь он сразу попадал в зону полицейского наблюдения. Полицмейстер г. Верного сообщал 4 мая 1912 г. в Семиреченское областное правление, что Абдул-Рашид Ибрагим-эфенди – член младотурецкого комитета «Единение и прогресс» был в 1908–1909 гг. в селении Токмак Пишпекского уезда у муллы татарской мечети Закир-Кара Ваганова. Потом некоторое время жил в городе Верном у купца-татарина Габдулвалиева2.
Туркестанский генерал-губернатор А.В. Самсонов просил военных губернаторов областей края навести справки о том, с кем встречался Абдул-Рашид Ибрагим-эфенди во время посещения региона. 12 мая 1912 г. начальник Закаспийской области Ф.А. Шостак писал в краевую канцелярию, что в его области турок знакомых не нашел3. Военный губернатор Ферганской области генерал-лейтенант А.И. Гиппиус сообщал 9 апреля 1913 г. в канцелярию туркестанского генерал-губернатора, что в его области не нашлось знакомых «эфенди»4. Таким образом, турок сеял семена панисламизма в Семиреченской области, где было больше всего татар. Но где бы он ни был, везде яростно критиковал Россию. Так, во время 1-й Балканской войны Абдул-Рашид Ибрагим-эфенди произнес в соборной мечети Айя-София проповедь, напечатанную в журнале «Сабимир-Рашид» (1912 г., № 8). Она была пронизана призывом к войне с «неверными». «Эфенди», в частности, говорил: «Вследствие этого [войны] необходимо воззвание ко всему мусульманству, живущему вдали от театра военных действий»5. Понятно, что он имел в виду Среднюю Азию.
В 1908–1909 гг. Туркестанский край нелегально объехал адъютант турецкого султана Исмаил Хаккы. Любопытно, что российская разведка знала об этом, но не воспрепятствовала его поездке. Военно-политический сыск следил за ним, но тоже не помешал турку. Органы туркестанской «охранки» только формировались и потому не могли полноценно подключиться к этому делу. Однако военная полиция края отслеживала устанавливаемые им контакты. Хаккы остался доволен приемом, о чем писал панисламистам в Маргилан: «Мужайтесь, время свободы для мусульман настало… Продолжайте в мечетях, медресе, подворьях у ходжей и именитых лиц ваши совещания так, чтобы гяуры ничего не понимали. Халиф-султан молит об освобождении своих верных сородичей»6.
Активность турецких панисламистов в России и Средней Азии еще более возросла после так называемой младотурецкой революции 1908 г. В 1910 г. из Стамбула в Бухару прибыл проповедник панисламизма и пантюркизма Салих-эфенди. В том же году некто Я. Н-ов писал в газете «Новое время», что «в наших среднеазиатских владениях уже начинает развиваться пропаганда панисламизма». Он указывал, что турецкие гастролеры свободно проникают в Туркестанский край и без боязни разъезжают по его территории. Он приводил в качестве примера турецкого эмиссара – «ключаря гроба Магомета» Агиба Жудо, интеллигента, который в 1909 г. открыто пропагандировал идеи панисламизма в Туркестанском крае, имея при себе «разрешительные» бумаги, полученные им от оренбургского губернатора1. Турецкие исламисты особенно ненавидели православную Россию и старались повсеместно подорвать ее позиции. Казахский националист А. Букейханов писал, что кочевники стали сильнее ненавидеть русских и с большим интересом слушали бродячих проповедников из Турции, повествовавших «о великом халифе-султане турецком, о справедливости, царящей в его царстве, и благоденствии его народа… степь слушала эти рассказы с глубокой завистью к подданным восточных деспотов»2.
30 ноября 1910 г. управление окружного генерал-квартирмейстера, «опекавшее» военную разведку Туркестанского военного округа, представило генерал-губернатору А.В. Самсонову доклад, в котором указывалось, что «в настоящее время в Туркестанском крае существует панисламистская деятельность, организованная Младотурецким комитетом в лице военных, не упускающих из вида возможности вооруженного столкновения между Россией и Турцией и не перестающих работать над тем, чтобы создать благоприятную для себя обстановку в России на случай открытия военных действий»3. Управление указывало, что для достижения своих целей Младотурецкий комитет наводняет Туркестанский край своими тайными эмиссарами, которые ведут скрытую, но сильную антирусскую пропаганду среди мусульман региона. Эти эмиссары проникали на территорию Русского Туркестана преимущественно через Красноводск, Керки, Термез и Семиречье под видом торговцев, лекарей, дервишей, нищих и т.п. Это обстоятельство имело свои результаты. В Русский Туркестан засылались из Турции панисламистские издания, например, распространялись статьи из стамбульского журнала «Сырати-мустаким». В январском номере 1912 г. говорилось, что у России было мрачное прошлое и «тусклое настоящее» и содержался призыв к единению всех мусульман мира против «неверных». О том же говорилось в статье «Единение – жизнь, разногласие – смерть!» 16 февраля того же года4.
Вместе с тем есть основания полагать, что связь турецкого панисламизма с туркестанским мусульманством была непрочной. Посол России в Турции Н.В. Чарыков писал 11 мая 1911 г. в 1-й департамент Министерства иностранных дел: «Отношение Константинопольского Шейх-уль-ислама к мусульманам Средней Азии за последние два года скорее сдержанное и почти что безучастное. Причиной является пренебрежение теперешнего Шейх-уль-ислама и его ближайших предместников, проникнутых либеральными западно-европейскими идеями, к туземцам Бухары и Туркестана, как к людям необразованным и неразвитым… Зато мне известно, что мусульмане Бухары и Туркестана, в свою очередь, смотрят на мусульман Константинополя и даже на Шейх-уль-ислама и на турецкого султана, как на людей, утративших первоначальную чистоту мусульманской веры и обряда и заразившихся неверием вследствие слишком тесного общения с христианами»5. Исследователь Т.В. Котюкова отмечает, что младотурки решили не направлять в Россию специальных эмис- саров – пропагандистов панисламизма, а поручить это дело своим сторонникам в самой Российской империи. Младотурки наметили широкую программу приобщения мусульман России к общемусульманскому прогрессу [Котюкова 2016: 154-155].
В Стамбуле российские эмигранты-панисламисты создали Комитет защиты тюркских народов России, который финансировался турецкими спецслужбами. Они старались всеми средствами дестабилизировать обстановку в России, однако простые мусульмане России слабо воспринимали идеи турецкой пропаганды. Перед Первой мировой войной турки сблизились с Германией, и их агенты вместе проникали в Русский Туркестан. Так, уже после начала войны, 18 октября 1914 г. штаб Туркестанского военного округа сообщал военным губернаторам областей края, что в крае появился турецкий эмиссар Хатыб Омар Наджбек, который скрыто собирает деньги в пользу Турции. Он просил направить полицию на поиск указанного агента и пресечь его враждебную деятельность1. Естественно, что турецкие панисламисты принимали участие в организации мятежа 1915 г. в Хивинском ханстве, а также восстания 1916 г. в Туркестанском и Степном краях.
Так как среднеазиатские ханства издавна входили в аннексионистские планы Османской империи, то турецкие панисламисты возлагали на них определенные надежды. Однако, поскольку Кокандское ханство в 1876 г. сошло с исторической арены, а Хивинское пребывало в «дремоте», им оставалось надеяться только на Бухарский эмират. Исследователь Т.В. Котюкова пишет, что в начале ХХ в. у царского правительства «недоверие вызывал эмир Бухарский. В 1901 г. он и кушбеги2 пожертвовали 200 тыс. руб. на строительство Хеджазской железной дороги от Мекки до Медины» [Котюкова 2016: 283]. Автор почему-то не упоминает о том, что деньги на это пожертвование они получили непосредственно от самого царского правительства.
Вместе с тем мы признаем, что Бухарское ханство было одним из источников панисламистской угрозы. Так, 30 ноября 1910 г. управление окружного генерал-квартирмейстера, «опекавшее» военную разведку Туркестанского военного округа, представило генерал-губернатору А.В. Самсонову доклад, в котором указывалось, что для свободы действий на территории Бухарского ханства турецкие панисламисты получали «рекомендательные письма» от главы эмирского правительства – кушбеги ко всем бекам, зякетчи и казиям. Управление подчеркивало, что кушбеги при этом действует сознательно и вполне определенно3.
Русский публицист Руслан-Русланскийписаллетом 1911 г. вгазете «Колокол», что с «автономией» Бухарского ханства надо кончать, т.к. из него бесконтрольно проникает в Русский Туркестан разная «мусульманская зараза» – панисламизм, пантюркизм, идеи газавата и т.п.4 Фактически одновременно об этом же писал в газете «Новое время» и упоминавшийся нами Я. Н-ов. Он указывал, что Бухарский эмират кишит турецкими и афганскими агентами. Отсюда проистекают ядовитые панисламистские, пантюркистские, антихристианские и т.п. идеи, свободно проникающие в Русский Туркестан. Я. Н-ов отмечал, что русское правительство мало думает о роли Бухары в антирусских замыслах врагов и подчеркивал: «Настоящие условия управления Бухарой едва ли отвечают интересам России в Средней Азии и вовсе уж нелестны для нашего русского самолюбия»1.
Немалую панисламистскую угрозу для России и Средней Азии представляли происки афганских властей, находившихся под сильным британским влиянием. Нелишне напомнить, что Мухаммед бин Сафар Джамал-ад-дин (1839–1897) – основатель панисламизма – был уроженцем Афганистана2.
Газета «Туркестанские ведомости» писала, что, по сообщениям англичан, афганский эмир Абдуррахман-хан созывал к себе во дворец известных мусульманских законоведов и предложил им составить книгу о священной войне мусульман с неверными – джихаде. И позже сам сделал замечания по этой книге3. Непосредственно ее автором был афганский мулла Мухаммед Азим-хан4. Все это случилось еще в середине 1880-х гг. После Андижанского мятежа 1898 г., когда толпа мусульманских фанатиков вырезала два десятка спящих в казарме русских солдат, туркестанские власти заинтересовались указанной книгой. Большой знаток ислама, директор Ташкентской учительской семинарии действительный статский советник Н.П. Остроумов писал в связи с этим: «В Андижанских беспорядках прошлого [1898 г.] года прямое или косвенное влияние Афганского амира также не подлежит сомнению, о чем высшей администрации Туркестанского края известно»5. Штаб войск Туркестанского военного округа попросил прислать афганскую книгу Азиатскую часть Главного штаба, однако там ее не оказалось. Тогда штаб округа отправил в афганскую провинцию Чорвилайет генерального штаба капитана Л.Г. Корнилова6, который сумел достать искомое произведение. Оно было датировано 1304 г. гид-жры, т.е. 1886 г. Перевод книги поручили поручику Яковлеву, а туркестанский генерал-губернатор С.М. Духовской доложил об этом военному министру А.Н. Куропаткину. Характерно, что выписки из книги «Слова Эмира городов о побуждении к Священной войне», в которых содержались наиболее агрессивные призывы к войне с «неверными», т.е. к их истреблению, были представлены лично царю Николаю II7. Судя по всему, он действительно ознакомился с ними. Русский публицист Руслан-Русланский писал в январе 1912 г., что «Афганистан хочет подготовить мусульманское население Туркестана к панисламистскому движению, а затем стать во главе “газавата” для освобождения мусульман из-под власти неверных, и это его задача, которую мы не хотим видеть, как не желали видеть приготовлений Японии к маньчжурской войне»8.
Нельзя не отметить, что панисламистские идеи проникали в Среднюю Азию и со стороны Восточного (Китайского) Туркестана. Степень участия непосредственно цинских властей в организации такого рода мероприятий доказать сложно, однако известно, что в 1912 г. царская «охранка» арестовала на территории Туркестанского края двух кашгарских учителей Искакова и Абдурахманова и предъявила им обвинение в пропаганде панисламистских идей1.
В 1908–1909 гг. в Туркестанском крае проходила правительственная ревизия под председательством сенатора К.К. Палена. Она собрала множество материалов, среди которых, однако, было мало данных по политическому надзору за панисламизмом в регионе, на что Главный штаб обратил внимание главы ревизии. 22 июля 1909 г. Пален писал начальнику Главного штаба генерал-лейтенанту А.З. Мышлаевскому, что «вопрос об организации надзора за мусульманством в Средней Азии и о мерах противодействия панисламистской пропаганде ныне разрабатывается по собранным ревизией материалам. По окончании означенной работы таковая мною немедленно будет сообщена»2. Но соответствующих сведений оказалось немного. В 1911 г. туркестанский генерал-губернатор генерал-лейтенант А.В. Самсонов поднял в администрации Туркестанского края вопрос об усилении мер борьбы с занесением панисламистской идеологии со стороны сопредельных мусульманских стран3. Тем не менее ситуация с панисламизмом в регионе год от года обострялась, что было связано с внутренними проблемами Русского Туркестана, а также происками внешних противников, особенно Турции, о чем мы писали выше. Вместе с тем военный губернатор Сырдарьинской области генерал-лейтенант А.С. Галкин указывал во «всеподданнейшем отчете» за 1912 г. на отсутствие заметных признаков усиления панисламизма, но подчеркивал, что в этом отношении «нужен постоянный бдительный надзор полицейских органов»4.
Как нам представляется, наиболее трезвую оценку панисламизму в Туркестанском крае дал его глава генерал-губернатор А.В. Самсонов. 30 мая 1913 г. он писал в рапорте начальнику Главного штаба генералу от инфантерии Н.П. Михневичу, что панисламизм более развит в «коренных» областях Туркестанского края – Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской, где преобладает оседлое земледельческое население и сильны традиции мусульманской веры5. Вместе с тем, отмечал Самсонов, в последнее время панисламизм значительно усилился и среди кочевых народов края. Причинами этому является панисламистская пропаганда татар, участившееся среди «киргизов» паломничество в Мекку и Медину, а также изъятие многих земель для пере-селенцев6. Туркестанский генерал-губернатор указывал, что недовольство кочевников коренится не в панисламизме, а в политике насаждения русского переселенческого контингента. Он писал: «Пока невежественные [в исламе] киргизы могут причинить нам немало хлопот и треволнений»7. Самсонов отмечал, что кочевники сопротивляются наплыву переселенцев и признавал честно: «Относительно столкновений с новоселами следует сказать, что подобные столкновения действительно бывают и виноваты в них обычно сами новоселы, от которых больше всего достается киргизам»1. При этом он указывал, что «все дела подобного рода – экономического характера… ничего политического в них нет»2. На наш взгляд, Самсонов вскрыл истинные причины недовольства коренного населения властью.
В заключение можно отметить, что панисламизм доставлял немало хлопот царской власти. Он был враждебен ей, поскольку отражал стремление российского мусульманства к более предпочтительным позициям в общественной жизни. Большое влияние на него оказывали панисламистские организации Турции, Афганистана, Бухарского эмирата и др. Тем не менее эта идеология не смогла завоевать умы большинства мусульман региона и подвигнуть их к противостоянию царской власти. После Первой мировой войны панисламизм сошел на нет, как и сменившее его «халифатистское» движение 1920-х гг. Оно растворилось в идеологии так называемого политического ислама.
Список литературы Источники панисламистской угрозы Российской империи в Средней Азии
- Котюкова Т.В. 2016. Окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы. М.: Научно-политическая книга. 390 с.
- Ленин В.И. 1962. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 28. Тетради по империализму. М.: Госполитиздат. 839 с.
- Россия и Средняя Азия. Т. 1. Политика и ислам в конце XVIII - начале ХХ в.: коллективная монография. 2013. М.: Изд-во МГУ. 475 c.
- Центральная Азия в составе Российской империи. 2008. М.: Новое литературное обозрение. 451 с.