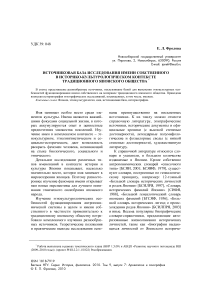Источниковая база исследования имени собственного в историко-культурологическом контексте традиционного японского общества
Автор: Фролова Евгения Львовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 7 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены разнообразные источники, послужившие базой для выяснения этнокультурных особенностей функционирования имени собственного на материале традиционного японского общества. Приведена японская историография этнографических исследований, посвященных, в том числе, именам.
Япония, этнокультурология, имя, источниковая база, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/14737342
IDR: 14737342 | УДК: 39:
Текст научной статьи Источниковая база исследования имени собственного в историко-культурологическом контексте традиционного японского общества
Имя занимает особое место среди эле ментов культуры . Имена являются важней шими фокусами социальной жизни , в кото рых аккумулируются опыт и ценностные предпочтения множества поколений . Изу чение имен в комплексном контексте – эт нокультурном , этнолингвистическом и со циально - историческом , дает возможность раскрыть феномен человека , возникающий на стыке биологического , социального и этнического .
Детальное исследование различных ти пов именований в контексте истории и культуры Японии показывает , насколько значительно место , которое имя занимает в мировоззрении японцев . Поэтому разносто роннее изучение феномена имени открывает нам новые перспективы для лучшего пони мания этнического своеобразия японского народа .
Изучение этнокультурологических особенностей функционирования антропонимической системы в целом и имени собственного в частности применительно к традиционному японскому обществу потребовало комплексного изучения разнообразных источников. Теоретические положения и практические выводы исследования осно- ваны преимущественно на письменных источниках. К их числу можно отнести справочную литературу, эпиграфические источники, исторические документы и официальные хроники (с высокой степенью достоверности), легендарные полумифоло-гические и фольклорные своды (с низкой степенью достоверности), художественную литературу.
К справочной литературе относятся словари и указатели, в большом количестве издаваемые в Японии. Кроме собственно антропонимических словарей «списочного типа» [БСЯИ, 2001; БСЯИФ, 1979], существуют словари, построенные по генеалогическому принципу, например: 12-томный «Большой словарь исторических личностей и родов Японии» [БСИЛРЯ, 1997], «Словарь исторических фамилий Японии» [СИФЯ, 1988], «Большой генеалогический словарь японских фамилий [БГСЯФ, 1936], «Большой словарь исторических легенд о происхождении родов Японии» [БСИЛПРЯ, 2003] и иные. Весьма популярны биографические словари-справочники, предлагающие авторизованные жизнеописания исторических личностей, такие как «Биографии выдающихся личностей от Японского историче- ского общества» [БВЛЯИО, 1958], «Биографический словарь исторических персоналий XVI–XIX вв.» [БСИП, 1994] и др.
В энциклопедическом проекте « Большой словарь имен исторических личностей Япо нии изд - ва Кадокава » [ БСИИЛЯ - К , 1989] в 47 томах собраны имена исторических лич ностей Японии по префектурам , городам , деревням . Биографические анекдоты , сведе ния по этимологии , истории городов и дере вень , генеалогические древа и хронологиче ские таблицы дают богатый материал для исследователя . Этимологические словари имен собственных ( например , « Большой словарь этимологии имен и фамилий » [ БСЭИФ , 1964], « Этимологический словарь фамилий » [ ЭСФ , 1986]) предлагают версии о месте и времени происхождении отдель ных фамилий , зачастую опирающиеся на малодостоверные легенды и литературные памятники .
В Японии издается также масса узкоспе циальных словарей , например женских имен (« Словарь женских японских имен » [ СЖЯИ , 1993]), имен литературных героев (« Сло варь имен литературных героев и мифоло гических персонажей Японии » [ СИЛГМПЯ , 1991]), псевдонимов (« Словарь псевдонимов от древности до нового времени » [ СПДНВ , 1990]). Созданы словари антропонимов от дельно по всем периодам японской истории , с древности до современности : эпох Кама кура (1185–1333 гг .), Мэйдзи (1868–1912 гг .), Сёва (1926–1989 гг .) и т . д . Таковы « Сло варь имен и фамилий древней Японии » [ СИФДЯ , 1973]; « Словарь имен и фамилий эпох Камакура и Муромати » [ СИФ - КМ , 1990]; « Словарь имен и фамилий эпохи Мэйдзи » [ СИФ - М , 1987]; « Биографиче ский словарь исторических персоналий XVI–XIX вв .» [ БСИП , 1994]; « Словарь имен и фамилий эпохи « воюющих провинций » [ СИФ - СГ , 1973] и др . В больших словарях нередко приводятся справочные статьи по антропонимике , написанные ведущими уче ными , излагается краткая история имен соб ственных в Японии .
Современные технологии позволяют вы пускать целые базы для исследователей на CD-ROM. Созданы полные базы данных по антропонимике и топонимике памятников « Адзума кагами » и « Гёкуё », причем можно одновременно выводить на экран монитора текст памятника , комментарии к нему и , на пример , словарь имен [ Адзума , 1999].
Отдельная группа словарей , в изобилии имеющихся в книжных магазинах и библио теках Японии – это справочники по выбору имени для ребенка , например : « Словарь ие роглифов для имен и фамилий » [ СИИФ , 1987]; « Словарь имен Сано Тоору » [ СИ - СТ , 1988]. В них описаны всевозможные спосо бы выбора « наилучшего имени » на основе фонетического анализа , подсчета черт в знаках , сочетаемости имени и фамилии , имен родителей , даты рождения и т . п . Оби лие антропонимических словарей в Японии указывает на то , как велик интерес японцев ко всему , что связано с именем , к своей ис тории .
При исследовании имен собственных не обойтись без специальных словарей ( напри мер : « Словарь чтений имен » [ СЧИ , 1990]). К изданным в России таким словарям отно сятся « Словарь японских имен и фамилий », первое издание которого вышло в 1953 г . [ СЯИФ , 1958; СЧЯИФ , 1990], и « Словарь японских географических названий » [ СЯГН , 1959].
Неоценимую помощь в работе оказали также исторические и энциклопедические издания , например , « Большой энциклопеди ческий словарь истории Японии » [ БЭСИЯ , 1992]; « Кодзируйхан : Словарь древних реа лий » [ СДР , 1972], « Кодзиэн : Словарь древ ностей » [ СД , 1986]) и др .
Самые ранние письменные источники – это эпиграфика на найденных в захоронени ях бронзовых зеркалах , мечах и буддийских статуях . В них прочитываются интересую щие нас сведения : титулатура правителей , имена собственные , социальная номенкла тура . К примеру , одно из самых ранних письменных свидетельств ( надпись датиру ется 471 либо 531 г .) о существовании титу лов содержится в надписи на « мече из Ина - рияма ( Сакитама )», найденном в 1978 г . при раскопках в префектуре Сайтама недалеко от Токио . В другом эпиграфическом памят нике – надписи на бронзовом зеркале V в ., хранящемся в синтоистском храме Суда Ха - тиман ( префектура Вакаяма ), упоминается имя знатного лица в сочетании с титу лом . Известно до двух десятков надписей , сделанных до конца VII в .; памятники IX–XII вв . собраны в специальном томе « Документального наследства эпохи Хэйан » [ Хэйан , 1962].
Значительное количество имен зафиксировано на деревянных табличках моккан – тонких дощечках 10–25 см в длину и 2–3 см в ширину, обнаруженных к настоящему времени в количестве более 200 тыс. шт. Восстановленные надписи с табличек мок -кан приведены на официальном сайте Института культурных ценностей в Нара 1.
Эти эпиграфические памятники , равно как и надписи на предметах повседневного обихода XV–XVI вв ., находящихся в экспо зициях различных музеев , имеют огромное значение для анализа антропонимических традиций Японии .
Исторические документы стали состав ляться в Японии в большом количестве в начале VIII в ., когда императорским указом было установлено , что отныне все распоря жения , указы , отчеты должны подаваться в письменном виде , а не передаваться устно , как прежде [ Пасков , 1987. С . 5]. Оригиналы более 12 тыс . ед . документов VIII в . хранят ся в основном в Сёсоин – Императорской палате в Нара .
Такэути Ридзо было подготовлено трех томное издание этих документов , среди ко торых книги подворных переписей , прово дившихся регулярно с 690 г . до конца VIII в . с интервалом в 6 лет , ежегодные учетные книги , содержащие данные о населении провинций с учетом пола и возраста , офи циальная переписка центральных и местных властей [ Нэйраку , 1962]. Особая ценность названных документов заключается в том , что в них в большом количестве зафиксиро ваны имена простолюдинов , которые отсут ствуют в хрониках « Кодзики » (712 г .) и « Нихонги » (720 г .). Самые ранние сохра нившиеся документы с посемейными запи сями относятся к 702 г . (« Списки провинции Мино ») и 721 г . (« Списки деревни Осима уезда Кацусика провинции Симоса »).
К 702 г. относится составление свода законов «Тайхо: рицурё:» или, как его чаще именуют, «Тайхо:рё:» [1985]. К «Тайхо:рё:» исторически восходит основная масса фамилий, образованных от названий должностей. Толкования и комментарии к кодексу позволяют понять происхождение имен знаменитых исторических деятелей, например Ооиси Тюдзэй, Сакума Гэмба и др. Кроме того, изучение статей свода позволяет «прочитывать» дополнительные коннота- ции, заложенные авторами в имена вымышленных литературных героев, например Сёдзиро Хэйбэй, Уцуки Такэути, Цукуэ Рю-носкэ и др.
Богатый антропонимический материал со держится в так называемых « местных опи саниях » (« Фудоки », 713–740 гг .), где собра ны разнообразные сведения по локальной истории и культуре . Попытки этимологиза ции имен собственных , предлагаемые чи новниками – авторами описаний , большей частью представляют собой народные вер сии и легенды , связанные с деяниями бо жеств и мифологических героев , но , тем не менее , представляют несомненный интерес . До нашего времени дошло всего пять опи саний : « Идзумо - фудоки » (733 г .) [ Идзумо , 1966], « Хитати - фудоки », « Харима - фудоки », « Бунго - фудоки » и « Хидзэн - фудоки » [ Фудо - ки , 1962; Древние Фудоки , 1969]. Именно со времени составления « Фудоки » началась унификация записи топонимов (« хорошими иероглифами » в два знака ), что впоследст вии значительно отразилось на знаковом составе фамилий .
Количество сохранившихся документов эпохи Хэйан (794–1185 гг .) значительно меньше – около 10 тыс . ед . Частично они собраны и систематизированы Такэути Рид - зо в 1947–1960 гг . [ Хэйан , 1962]. Здесь осо бую ценность представляют документы о собственности на землю , об аренде земель , которые содержат имена собственные и упоминания о статусе землевладельцев раз ных сословий .
Антропонимическую картину эпохи Ка макура (XII–XIV вв .) позволяют воссоздать памятники , собранные тем же Такэути в ан тологии « Документальное наследство Кама кура » в 42 томах , с приложениями в виде антропонимического и топонимического указателей [ Камакура , 1962]. Для получения сведений по более поздним историческим периодам мы обращались к двум сборникам исторических документов эпохи Муромати (XIV–XVI вв .), подготовленным издательст вом То : кё : до :, в частности , они содержали « уложения » разных годов и « списки объек тов земельного владения » [ Намбокутё , 1966; Сэнгоку , 1983].
По XVII–XIX вв. богатый материал по специальным разрешениям на ношение или запрещение бенефиционимов (49 примеров) содержится в памятнике «Указы Токугава о запретах» [Токугава, 1978]. Чрезвычайно интересны также документы переходного времени от новой к новейшей истории, материалы первой послереформенной все-японской переписи населения (1872 г.) под названием «Обновленные и исправленные посемейные списки», частично доступные на официальном сайте Национального архива Японии 2.
К полуофициальным , мифологизирован ным историческим хроникам Японии отно сятся , прежде всего , ранние своды « Кодзи - ки » (« Записки древности », 712 г .) [ Кодзики , 2005] и « Нихон сёки » (« Анналы Японии », 720 г .) [ НС - И , 1965; НС - СПб , 1997], даю щие богатый материал для исследования имен собственных ( теонимов , топонимов , антропонимов ). Обе хроники излагают древнюю историю Японии , начиная с « эры богов ». Наряду с исторически достоверны ми сведениями о периоде V–VII вв ., они со держат мифы , легенды и сказания , являясь неисчерпаемым источником материалов по японской этнографии и литературе . Из ан тропонимов в них представлены только име на аристократии , записанные китайскими иероглифами фонетическим способом .
В « Нихон сёки » – первой из шести « отече ственных историй » (« Риккокуси ») – погодные записи правящего дома начинаются с прав ления императрицы Суйко (592–628 гг .). На обильном фактическом и именном мате риале можно проследить возвышение рода Фудзивара , возрастание влияния служилой знати – в частности , выходцев с материка . Здесь же содержится « Список ста фами лий », по структуре представляющий собой аналог китайского « Канона ста фамилий » (« Байцзясин »).
Для рубежа VIII–IX вв. наиболее значимы генеалогические хроники знатных родов Такахаси и Имибэ: «Такахаси удзи буми» («Сочинение о клане Такахаси», 789 г.) [Такахаси, 2006] и «Когосюи» («Собрание прежде упущенных древних речений», 807 г.), а также «Синсэн сёдзироку» («Вновь составленные родовые списки», 815). Документ «Синсэн сёдзироку» ранжирует 1 182 влиятельных рода своего времени в зависимости от типа предка (потомки императоров, потомки небесных божеств, потомки детей и внуков небесных божеств, потомки земных божеств, потомки иммигрантов). Списки родов, оформленные на основе ранее изданного исследования, полностью представлены на личном сайте доктора наук университета Гакусюин Китагава Кад-зухидэ 3.
Богатство и престиж рода Фудзивара за печатлены в названии наиболее известной хроники периода XI в . « Эйга - моногатари » (« Сказание о великолепии »; другой перевод – « Повесть о процветании ») – подробнейшем генеалогическом описании великого рода [ Эйга , 1998].
Множество примеров имен служилого дворянства , не имеющего своей земли , со держится в памятниках XII–XIII вв . « Хогэн моногатари » и полуофициальной хронике прихода самураев к власти времен камакур ского сёгуната « Адзума кагами » (« Восточ ное зерцало ») [ Адзума , 1999]. Преобладание принципа вертикального и горизонтального соименования , а также пристальный интерес японцев к генеалогии в средние века хоро шо иллюстрируют такие памятники XII в ., как , например , « О : кагами » (« Великое зер цало ») [ Окагами , 2000]. « О : кагами » пред ставляет собой серию жизнеописаний импе раторов и высших сановников из рода Фудзивара с 850 по 1025 г . В современных изданиях оно снабжено обширными прило жениями в виде антропонимических спи сков .
В трактате XVI в . иезуитского миссионе ра падре Валиньяно проанализирована ие рархия японского общества эпохи Токугава с точки зрения иностранца и сделана по пытка установить аналогии рангов христи анских и буддийских священников , а также подробно расписаны система и этикет об ращений в различных ситуациях [ Валинья - но , 1998].
Художественная литература Японии представляет уникальный материал для антропонимических реконструкций. Поэтическая антология «Манъёсю», первый письменный памятник японской поэзии, включает песни, датированные IV–VIII вв., а также значительно более древние произведения [Манъё-сю, 1987]. Антология содержит авторскую поэзию, народные песни, предания, легенды, в которых упоминаются имена собственные. Песни «Манъёсю» содержат убедительные свидетельства наличия практики табуирования имен, особенно в отношении женщин.
Памятники эпохи Хэйан (794–1185 гг .), такие как « Дневник из Тоса » [ Тоса , 1975], « Отикубо моногатари » [ Отикубо , 1988], « Гикэйки » и др ., дают представление о сис теме обращений в традиционном японском обществе . Кроме того , в них упомянуты имена простолюдинов : слуг , монахов , та лантливых ремесленников . Произведение « Кондзяку моногатари » (« Повесть о време нах старых и новых », 1120 г .) содержит бо лее тысячи буддистских и светских историй из Индии , Китая и Японии [ Кондзяку , 1991], отразивших разные стороны жизни как ари стократии , так и простого народа .
Записки и дневники хэйанских аристо кратов в русских переводах (« Исэ - моно - гатари » [ Исэ , 1979], « Нидзё . Непрошеная повесть » [ Нидзё , 1986], « Уцухо моногата - ри » [2004], дневники придворных дам древ ней Японии [ Дневники …, 2002] и энцикло педия придворной жизни эпохи Хэйан « Гэндзи моногатари » [ Гэндзи , 1991]) со держат богатый этнографический материал по обрядам рождения и имянаречения , ини циации и смерти , по фактам жалования фа мильных именований .
В эпоху Камакура (1185–1333 гг .) на пер вый план вышла народная культура . В об ласти литературы важным элементом стали военные повести . Самая знаменитая из них – « Повесть о доме Тайра », подробно описала взлет и падение рода Тайра , сосре доточив внимание на его войнах с кланом Минамото [ Повесть , 1982].
В конце Х VII – начале Х VIII в . появи лись произведения Ихара Сайкаку , реали стично описавшего жизнь купцов в Осака [ Ихара , 1959; 2001], и Тикамацу Мондза - эмона , сочинявшего сказки и пьесы для те атра Кабуки [ Японский театр , 2000]. Имена действующих лиц , представленные в драма тургических произведениях и прозе , ярко отражают сложившиеся к этому времени сословные различия в области имен собст венных .
В целом комплексное изучение разнообразных источников с VIII по XIX в. как на языке оригинала, так и в русских переводах, позволяет дать ответы на основную задачу исследования, а именно, выяснение этнокультурных особенностей функционирования имени собственного на материале традиционного японского общества.
Помимо собственно источников , нас ин тересовали и японские этнографические ис следования , особенно те из них , где рас сматривается феномен имени под разными углами зрения : имя в культуре , имя в исто рии , имя как предмет генеалогии , имя как объект ономастики . В японской историо графии , начиная со второй половины ХХ в ., можно выделить несколько периодов , каж дый из которых характеризуется интересом к определенным функциям имени собствен ного .
Поражение Японии во второй мировой войне , американская оккупация , « сложение с себя божественных полномочий » импера тором Хирохито повлекли за собой пере оценку моральных ценностей , крушение культивировавшихся в первой половине ХХ в . националистических идеалов . Форми рование нового индустриального общества представляло угрозу для складывавшихся веками общественных установок . Именно опасение полной утраты традиционных ус тоев вызвало в 1960- е гг . всплеск интереса к национальным традициям . В исторической науке , освобожденной от догмата национа лизма , появились фундаментальные иссле дования по древнему и средневековому периоду . В культуре и литературе , в проти вовес новым течениям , постоянным поис кам новых форм , возникло движение тради ционалистов за « сохранение культурных ценностей ». В этом же русле можно рас сматривать и возраставший интерес к роли имени в истории и культуре . К 1960- м гг . было опубликовано множество работ и сло варей , основанных на изучении ранних па мятников японской письменности ( см .: [ Фу - доки , 1962; Камакура , 1962; Нэйраку , 1962; Хэйан , 1962] и др .).
Первые послевоенные исследования, посвященные именам, были написаны историками и носили описательный характер. Акцент в них был сделан на генеалогические связи, обстоятельства получения и выбора имен, возникновения и угасания известных родов Японии. Происходил сбор исторического, мифологического, литературного материала и фиксация определенного культурно-исторического контекста для каждого рода. Эти «истории родов» публиковались в виде книжных серий либо словарей [БВЛЯИО, 1958; БГСФ, 1963; БСЭИФ, 1964; СИФДЯ, 1973; СИФ-СГ, 1973]. Создание «новой мифологии» родов, претендующее на объективное историческое исследование, на деле представляло собой попытки фиксации традиционных ценностей.
В послевоенные десятилетия в японской лингвистике предпринимались первые по пытки системного подхода к изучению имени собственного [ Ватанабэ , 1958]. Про исходило утверждение и закрепление ономастической терминологии , делались попытки системной классификации онимов . Однако в заголовках научных статей , по священных именам , по - прежнему преобла дало слово намаэ ( имя ) [ Намаэ , 1976; Намаэ , 1982 а ].
В конце 1970- х гг . в японской лингвис тике под влиянием европейской гуманитар ной науки формировалось структурно семиотическое направление . Язык рассмат ривался как знаковая система , состоящая из множества подсистем различных уровней . Структурно - семиотический подход дал бо гатые возможности для изучения имен как отдельной знаковой подсистемы и как осо бого средства коммуникации . Признавался тезис о том , что в традиционной культуре личное имя имеет две основные функции : социальную ( идентифицирующую ) и мифо логическую ( регулирующую ) [ Яманака , 1975; Сато , 1976]. Возросло количество ис следований , посвященных западной и срав нительной ономастике , например « Словарь американской антропонимики » [ Америка , 1983], « Справочник по европейской антро понимике » [ Сэйо , 1984], « Словарь корей ских имен и фамилий » [ Канкоку , 1988]. Однако возможности метода не были доста точно полно использованы японскими лин гвистами .
В 1980-е гг. начался период интеграции Японии в мировое сообщество на новом уровне – страна позиционировала себя как лидера стран региона Юго-Восточной Азии. Закрепить этот статус были призваны, в том числе, новые исторические и кросс-культурные исследования, доказывающие приоритет Японии в регионе и ее особое место на мировой арене [Тада, 1972; Нихон, 1974; Дзюгаку, 1979]. Муссировалась легенда божественного происхождения императорской фамилии, вновь проводились исследования, обращенные к древнему периоду и средним векам, издавались новые генеалогические словари [СИФЯ, 1988; БСИП-М, 1981; БСИИЛЯ-К, 1989]. В методологии по-прежнему преобладал историко-генетический подход [Нива, 1975; 1986; 1987; Хора, 1987].
К 1990- м гг . фокус исследований посте пенно сдвигался к современности . Изучение имен в синхронном аспекте становилось более доступным благодаря развитию со временных средств коммуникации и созда нию крупных баз данных по районам и по стране в целом . Публиковались списки и рейтинги наиболее популярных имен по го дам , справочники населения , данные элек тронных опросов . По количеству публика ций , связанных с именами собственными , безусловно , доминировали работы по пси хологии и практике именования , по пробле ме выбора « правильного » имени для ребен ка [ Намаэ , 1982 б ; Нагао , 1982; Мацуда , 1982; СИ - СТ , 1988].
Однако интерес к исторической пробле матике не угасал . Именно в этот период в научный оборот было введено огромное ко личество материалов по истории отдельных родов , а также словарей ( см .: [ Окутоми , 1987; Сакагаки , 1998; Кида , 1999; Нива , 1986; 1987; БСИЛРЯ , 1997; БСИП , 1994] и др .).
На рубеже веков появились обобщающие работы по проблеме имен собственных , выполненные на основе трудов предшест венников [ Араки , 1996; БСИЛПРЯ , 2003; Нихон , 1998]. Наряду с традиционными ис торико - генетическими исследованиями [ Тоё да , 2000; Судзуки , 2001; Бан , 2001; Окуто - ми , 2003], появились работы , заявляющие оригинальные подходы к изучению имен и фамилий . Так , Мориока Хироси – признан ный современный ведущий исследователь фамильных именований , работает с отдель ными именами как с маркерами историче ских событий и географических объектов [ Мориока , 2002; 2004].
Исторические , этнографические и этно лингвистические данные и материалы , вве денные в научный оборот отечественными и зарубежными исследователями , представ ляют огромный интерес . Без них невозмож но осуществить всесторонний анализ фено мена имени в японской культуре .
Процессы глобализации, влияющие на традиционные общественные устои, уже значительно изменили поведенческие стереотипы японцев. Внедрение усредненной американизированной масс-культуры постепенно и необратимо разрушает этническое своеобразие японской культуры. В этих условиях имена, а также вся система именования, имянаречения, – это то, что пока сильнее всего сопротивляется внешнему влиянию. При некотором изменении формы (переход на двучленную формулу именования, псевдо-европейские женские имена) содержание феномена имени остается неизменным в течение веков. Именно поэтому представляется чрезвычайно важным и актуальным изучение феномена имени в контексте всей духовной культуры Японии.