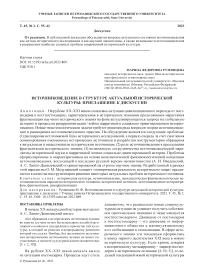Источниковедение в структуре актуальной исторической культуры: приглашение к дискуссии
Автор: Румянцева Марина Федоровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Дискуссии. Источниковедение в актуальной исторической культуре
Статья в выпуске: 2 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
На рубеже XX-XXI веков сложилась ситуация цивилизационного перехода от постмодерна к постпостмодерну, характеризуемая в историческом познании продолжением нарастания фрагментации научного исторического знания на фоне актуализирующегося запроса на глобальную историю и процессом ренарративизации / войны нарративов в социально ориентированном историописании. Новые эпистемологические задачи требуют решения ряда вопросов теории источниковедения и расширения источниковедческих практик. На обсуждение выносятся следующие проблемы: (1) расширение источниковой базы исторических исследований, в первую очередь за счет смягчения доминирования письменных исторических источников и разработки инструментария обращения к визуальным и вещественным историческим источникам; (2) роль источниковедения в преодолении фрагментации исторического знания; (3) возможность сотрудничества источниковедческой парадигмы исторической науки и нарративной логики социально ориентированной истории. Проблемы сформулированы и охарактеризованы на основе неоклассической феноменологической концепции источниковедения, восходящей к наследию русской версии неокантианства (А. И. Введенский, А. С. Лаппо-Данилевский) и ориентированной на строгое научное знание. Разработанный в рамках этой парадигмы О. М. Медушевской концепт «эмпирическая реальность исторического мира» предлагается в качестве инструментария решения некоторых актуальных проблем исторического познания.
Историческая культура, источниковедение, неоклассическая феноменологическая источниковедческая парадигма исторического познания, исторический источник, источниковедение историографии, фрагментация, ренарративизация
Короткий адрес: https://sciup.org/147240116
IDR: 147240116 | УДК: 930.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.869
Текст научной статьи Источниковедение в структуре актуальной исторической культуры: приглашение к дискуссии
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В начале XX века русский историк-методолог А. С. Лаппо-Данилевский писал:
«Без обращения к историческим источникам человек во многих случаях не мог бы испытывать на себе благотворного влияния и поддерживать преемство той культуры, в которой он родился и непрерывному развитию которой он служит. Вообще, без постоянного пользования историческими источниками человек не может соучаствовать в полноте культурной жизни человечества» [3: т. 2, 392].
На рубеже XX–XXI веков начался выход из ситуации постмодерна. Процессы идут столь
динамично, что радикально новая социокультурная ситуация не успевает получить собственное оригинальное название и чаще именуется постпостмодерном. Движение от постмодерна к постпостмодерну – это движение от информационного общества к манипуляционному и от глобализации к глокализации. В сфере исторического знания эти тенденции оформились к концу первого десятилетия XXI века в новую историческую культуру. Если кризис доверия к историческому метанарративу – маркер постмодерна в историческом познании [4: 10–11], то ведущей тенденцией новой исторической культуры стал процесс ренарративизации. Именно он обеспечивает, с одной стороны, формирование идентичности локальных сообществ разного масштаба и уровня в процессе глокализации, а с другой стороны, именно нарратив, его идентифицирующая функция являются инструментом манипуляции социумами на глубинном уровне. Ведущая характеристика новой ситуации – борьба / война нарративов, что еще раз доказывает, что история – наука стратегическая. И, на мой взгляд, понимание этой ее функции характеризует в первую очередь профессионализм историка в актуальной социокультурной и геополитической ситуации.
Нарратив принадлежит социально ориентированному историописанию. В сфере же научного исторического знания происходит актуализация неоклассической модели науки, что отмечает, в частности, А. В. Лубский (1947–2020) [6: 256– 339]. Будучи согласна с Лубским в части актуализации неоклассической модели науки, отмечу, что, на мой взгляд, сама эта модель формируется при выходе из методологического кризиса рубежа XIX–XX веков, параллельно с неклассической моделью науки, – и это принципиально важно при анализе источниковедческой парадигмы исторического познания. К неоклассической модели стоит отнести феноменологию Э. Гуссерля (1859–1938), а в качестве реперной точки формирования неоклассической модели я рассматриваю его программную статью «Философия как строгая наука»1 (1911). В российской исторической науке в это время мы видим – в контексте русской версии неокантианства – возникновение феноменологической концепции источниковедения, имеющей тенденцию движения именно к неоклассической модели научного познания.
Формирование новой исторической культуры в контексте постпостмодерна и актуализация неоклассической модели науки – именно эти факторы заставляют вынести на обсуждение некоторые вопросы состояния источниковедения в 2020-х годах и, главное, его роли в современной науке и социальных практиках.
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
Не могу не отметить, что не только у студентов, но и у части коллег замечаю убежденность в том, что советская историческая наука (а российская историческая наука на протяжении большей части XX века – это наука советская) отличается от «западной» своей особой идеологизированностью… Ввиду бесполезно- сти убеждать сторонников этой позиции в том, что презентизм / американский релятивизм (C. L. Becker, 1873–1945; Ch. A. Beard, 1874– 1948) – отнюдь не советские явления, да и Бенедетто Кроче (1866–1952; автор афоризма: «История – современная мысль о прошлом») – явно не российский мыслитель, останавливаться на этом не буду. Но подчеркну, что радикальное отличие российской исторической науки было и сохраняется на протяжении всего ее развития: это особое внимание к объекту исторического познания / историческому источнику. Концептуально оно было зафиксировано еще во время методологического кризиса рубежа XIX–XX веков: в то время как Баденская школа неокантианства (В. Виндельбанд, 1848–1915; Г. Риккерт, 1863–1936) принципиально отказалась рассуждать об объекте исторического познания и сосредоточилась исключительно на его логике, русские неокантианцы создали целостную концепцию объекта исторического познания (Александр Иванович Введенский, 1856–1925) / теорию источниковедения (Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский, 1863– 1919) (подробнее см.: [11]).
Представленные ниже базовые определения и предложенные для дискуссии проблемы основываются на феноменологической концепции источниковедения, восходящей к русской версии неокантианства. Эта концепция на протяжении XX – начала XXI века развивалась Научно-педагогической школой источниковедения, преемственность которой с русским неокантианством обеспечили в первую очередь ученик А. С. Лаппо-Данилевского Александр Игнатьевич Андреев (1887–1959) и далее – ученица Андреева Ольга Михайловна Медушевская (1922–2007), работы которой вывели концепцию на новый уровень – уровень научного направления / парадигмы когнитивной истории [8].
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Историческая культура2 –
«понятие, отражающее различные формы отношения человеческих групп к прошлому, в том числе и к тому прошлому, которое они признают своим собственным <…> Изучение исторической культуры предполагает анализ способов социального производства исторического опыта и форм его манифестации в жизни сообществ» [12: 165].
Рискну предложить свой вариант определения исторической культуры – более простой и к тому же когерентный одной из важных составляющих источниковедения – источниковедению историографии: историческая культура – система получения и презентации исторического знания, формирования исторических представлений, свойственная определенной социокультурной общности и презентируемая системой видов историографических источников.
Источниковедение -
«гуманитарная дисциплина, объект которой – исторические источники, вся совокупность произведений человека / продуктов культуры (эмпирическая реальность исторического мира, О. М. Медушевская), а предмет – исторический источник как культурный феномен и на этой основе поиск, извлечение, оценка и использование информации о человеке и обществе в их исторической составляющей» [12: 206].
Это определение необходимо дополнить и подчеркнуть, что дисциплинарный статус источниковедения на протяжении XX – начала XXI века трансформируется от составляющей методологии исторического познания -к дисциплине (субдисциплине) исторической науки 3 - и к научному направлению 4 , сохраняя на каждом этапе развития и прежние свои ипостаси. Этой трансформации соответствует изменение объекта источниковедения: исторический источник - система видов исторических источников - эмпирическая реальность исторического мира (понятие, введенное О. М. Ме-душевской, 1922–2007) [8], [9] (подробнее см.: [10]).
Источниковедческая парадигма исторического познания / феноменологическая парадигма истории как строгой науки – базовая теория исторического познания, исходящая из принципа единства и имманентной структурированности глобального объекта истории – эмпирической реальности исторического мира.
О. М. Медушевская, разрабатывая концепцию когнитивной истории, подчеркивала:
«Наука не привносит извне или из идей познающего субъекта системности в первозданный хаос <…> феноменологический подход исходит из того, что в мире существует системность, взаимосвязанность, которую исследователь как раз и стремится открыть» [8: 14].
И такую возможность предоставляет макрообъект исторической науки – эмпирическая реальность исторического мира.
«В качестве общего положения можно говорить о том, что совокупный интеллектуальный продукт, созданный в ходе исторического процесса, не представляет собой неструктурированной массы, но, напротив, обладает имманентным свойством структурированности и взаимосвязанности. Интеллектуальные продукты, создаваемые людьми, структурированы в соответствии с теми функциями, для которых они предназначены. Они имеют системное качество и, следовательно, спо- собны фиксировать такой информационный ресурс, который говорит не только о них самих, но и той системе, в рамках которой оказалось возможным их возникновение» [8: 258].
Исторический источник -
«объективированный результат творческой активности человека / продукт культуры, используемый для изучения / понимания человека, общества, культуры как в исторической, так и в коэкзистенциальной составляющих» [12: 205].
Источниковедение историографии -
«предметное поле5 актуального исторического знания, востребующее метод источниковедения для изучения истории исторического знания в междисциплинарном пространстве интеллектуальной истории» [12: 209].
Исторический источник и источниковедение историографии – скорее термины, чем понятия, причем источниковедение историографии очевидным образом подчинено понятию источниковедения, но я сочла нужным привести его определение наряду с базовыми понятиями ввиду особой роли источниковедения историографии в рефлексии по поводу современной исторической культуры.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Предлагаю для обсуждения три проблемы: одна – из области собственно источниковедения, вторая – о соотнесении источниковедческой парадигмы и современного научного исторического знания и, наконец, третья, и главная, – о возможности соотнесения источниковедческой парадигмы и нарративов, множащихся в процессе ренарративизации, точнее – о возможности соотнесения нарратива и репрезентации истории на основе источниковедения.
Эти проблемы формируются в разное время и, соответственно, в разных исторических культурах: первая – на рубеже XX–XXI веков в связи с визуальным и вещественным поворотами в социальном познании, вторая нарастает на протяжении всего XX века в связи с усиливающейся фрагментацией исторического знания и, соответственно, утратой возможности когерентной истории, и только третья, как уже было отмечено выше, маркирует актуальную историческую культуру – историческую культуру постпостмодерна, складывающуюся к концу первого десятилетия XXI века.
Проблема 1. Расширение источниковой базы исторических исследований / выход за пределы письменных исторических источников
Еще в конце XIX века Ш.-В. Ланглуа (1863– 1929) и Ш. Сеньобос (1854–1942) заявили, что история пишется по документам:
«История пишется по документам. Документы – это следы, оставленные мыслями и действиями некогда живших людей <…> Всякая же мысль, и всякий поступок, не оставивший прямого или косвенного следа или видимый след которого исчез, навсегда потерян для истории, как если бы он никогда не существовал <…> Ничто не может заменить документов: нет их, нет и истории»6.
Очевидно, что Ланглуа и Сеньобос – в теоретическом плане – имели в виду не только письменные источники. Но все равно их позиция была подвергнута решительной критике со стороны одного из основоположников Школы «Анналов» Л. Февра (1878–1956), который отметил, что популярная формула Ланглуа – Сеньобоса
«предполагала тесную связь между историей и письменностью – и это в тот самый момент, когда ученые, занимавшиеся исследованием доисторического периода <…> старались восстановить без помощи текстов самую пространную из глав человеческой истории…»7.
Не буду даже пытаться разрешить их спор, акцентирую внимание только на двух аспектах. Во-первых, усилю позицию Ланглуа – Сеньобо-са: история пишется не просто по «документам», но почти исключительно – по письменным источникам. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть ссылки и списки источников любой публикации научного исторического исследования. Соответственно, «связь между историей и письменностью» есть и ее довольно-таки легко эксплицировать. Во-вторых, обращу внимание, что Февр апеллирует к первобытному обществу, то есть обществу неисторического типа.
Насколько необходимо расширять источнико-вую базу за счет изобразительных (визуальный поворот) и вещественных (вещный поворот) источников? Скорее всего, ответ положительный, – трудно, да и незачем, отказываться от расширения источниковой базы. Но почему же историки не делали этого раньше? И почему теперь настало время визуальных и вещественных исторических источников? Обрисую свое видение этого вопроса, по необходимости запредельно кратко8. История изучает культуры исторические / с историческим типом социальной памяти (подробнее см.: [5]), что вполне логично. Культуры с традиционным типом социальной памяти изучает этнография – другая наука, обладающая своими собственными методами. Ситуация постмодерна (последняя треть XX века) – ситуация «конца истории». Как бы ни критиковали Френ- сиса Фукуяму (р. 1952) за его знаковую статью 1989 года [13], на мой взгляд, он зафиксировал очень важный исторический момент – конец того исторического типа культуры, который был свойственен «духовной Европе» (понятие Э. Гуссерля), а с геополитической точки зрения – конец европоцентричного мира (вернее – начало конца). Новый мир, сменяющий мир европоцентричный, характеризуется «столкновением цивилизаций» (концепция С. Хантингтона, сформированная во многом в противостоянии с европоцентрич-ной концепцией Ф. Фукуямы) [14]. Но вполне очевидно, что разумное участие в «столкновении цивилизаций» требует от историков адекватной рефлексии иной культуры, понимание которой сильно затруднено, а иногда и просто невозможно на основании только письменных источников. Формат статьи не предполагает возможности рассуждать о соотношении письменных источников и источников визуальных и вещественных, о различиях их функций в историческом познании, но на интуитивном уровне, полагаю, это различие очевидно.
Кроме вполне понятной инерции на пути обращения историков к визуальным и вещественным историческим источникам, существует и проблема археографии – введения этих источников в научный оборот, их публикации. Особенно сложна она для вещественных источников, хотя музейщиками и накоплен обширный опыт таких публикаций в формате каталогов. В 2012 году Научно-педагогической школой источниковедения было инициировано проведение совместно с работниками музеев конференции «Археография музейного предмета» [1]. Конференция была весьма представительной, но вынуждена констатировать, что решить проблему, даже приблизиться к ее решению, нам так и не удалось. Вероятно, здесь можно и нужно обратиться к опыту музейщиков, которые начиная с 1990-х годов (если речь идет о России) перешли от иллюстрации метанарратива к созданию самостоятельных репрезентаций истории. Но этот опыт, увы, не связан с публикацией вещественных источников, то есть не позволяет открыть доступ к ним для широкого круга исследователей.
Проблема 2. Поможет ли источниковедение преодолеть фрагментацию исторического знания?
Очевидно, что фрагментация, под которой понимается формирование новых дисциплин (субдисциплин) и направлений исторической науки, нарастает на протяжении всего XX века, причем не только за счет формирования все новых субдисциплин исторического знания, но и за счет усложнения его вертикальной / иерархической структуры (формирование новых предметных полей и направлений). Прежде чем отвечать на вопрос, чем может помочь источниковедение в преодолении фрагментации, стоит ответить на два других вопроса: можно ли в принципе преодолеть фрагментацию и – главное – надо ли ее преодолевать? Здесь я разделяю позицию А. Мегилла (р. 1947):
«Вера в то, что синтез – это достоинство, а фрагментация – недостаток, глубоко укоренилась в культуре академических историков. <…> Давайте, однако, быть начеку: все призывы к синтезу – это попытки навязать интерпретацию. <…> Я не нахожу никаких оправданий <…> тому, чтобы воспринимать “фрагментацию” как термин осуждающий, а “синтез” как восхваляющий» [7: 256–257].
Но невозможно не понимать, что фрагментация ведет к невозможности когерентной истории (эту проблему также рассматривает Мегилл [7: 269–270]), что только усугубляет войну нарративов.
Источниковедческая парадигма исторического познания, на мой взгляд, дает возможность когерентной репрезентации истории на основе своего базового понятия эмпирическая реальность исторического мира , которая обладает имманентным единством. Кроме того, предложенный внутри этой концепции метод компаративного источниковедения9 дает соответствующий инструментарий.
Проблема 3. Источниковедческая парадигма и нарративная логика социально ориентированной истории: возможно ли сотрудничество?
Уже не раз, в разных контекстах, приводила размышления О. М. Медушевской об актуальном состоянии исторической культуры (отметим, что работа над книгой [8] была завершена автором в 2007 году, когда анализируемые тенденции только намечались). Медушевская пишет «о сосуществовании и противоборстве двух взаимоисключающих парадигм»: парадигмы нарративной логики и парадигмы истории как строгой науки [8: 15–16]. Выскажу еще раз некоторое не- согласие с позицией Ольги Михайловны: в ситуации ренарративизации речь идет не о противоборстве, а о параллельном существовании исторической науки и социально ориентированного историописания, в крайнем случае – о противостоянии, соответственно, эти «парадигмы» можно рассматривать не только как взаимоисключающие, но и как взаимодополняющие.
Вот уже примерно полвека никто всерьез не оспаривает утверждения, что нарратив неве-рифицируем, а это значит, что критиковать его с позиции другого нарратива (а это и есть ситуация борьбы / войны нарративов) контрпродуктивно. Естественно, что любой нарратив выражает историческую культуру своего времени и, соответственно, являясь историографическим источником, может быть деконструирован «извне», методом источниковедения историографии. На мой взгляд, этот подход не является дискуссионным.
Но возможно ли «сотрудничество» источниковедческой парадигмы и нарратива? Скорее всего, движения навстречу со стороны нарратива ожидать не приходится – у него другое целеполагание, которое, вероятно, часто можно выразить словами Ф. Ницше, написанными еще в 1873 году при характеристике одного из типов историопи-сания – критической истории:
«Это как бы попытка создать себе a posteriori такое прошлое, от которого мы желали бы происходить, в противоположность тому, от которого мы действительно происходим»10.
Но, как было замечено выше, источниковедческая парадигма способна предложить свою репрезентацию истории на строгой эмпирической основе (кстати, включающей в перспективе и визуальные, и вещественные источники), что, возможно, даст дополнительный критерий для оценки тех или иных нарративов. Но, на мой взгляд, этот вопрос наиболее спорный.
***
Естественно, предлагаемые для обсуждения вопросы не исключают (1) обсуждения / критики (во всех смыслах) самой феноменологической концепции источниковедения как в целом, так и в отдельных ее аспектах и (2) явно не исчерпывают всех возможных проблем.
Список литературы Источниковедение в структуре актуальной исторической культуры: приглашение к дискуссии
- Археография музейного предмета: Материалы Междунар. науч. конф., г. Москва, 16-17 марта 2012 г. / Отв. ред. Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков, М. Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 2012. 201 с.
- Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос: международный ежегодник по философии культуры: русское издание. М.: Мусагет, 1911. Кн. 1. С. 1-56.
- Лаппо - Данилевский А. С. Методология истории: [В 2 т.]. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. Т. 1-2.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: АЛЕ-ТЕЙЯ, 1998. 159 с.
- Лотман Ю. М. Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культуры? // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 344-356.
- Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования. М.: Социально-гуманитарные знания, 2005. 351 с.
- Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: Канон+, 2007. 480 с.
- Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 358 с.
- Медушевская О. М. Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины - источниковедение - методология истории в системе гуманитарного знания: Материалы XX Междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. - 2 февр. 2008 г.: В 2 ч. М.: РГГУ, 2008. Ч. 1. С. 24-34.
- Румянцева М. Ф. Источниковедение в структуре исторического знания: неоклассическая модель науки // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 5 (166). С. 44-51.
- Румянцева М. Ф. Русская версия неокантианства: к постановке проблемы // Ученые записки Казанского университета. Сер. Гуманитар. науки. 2012. Т. 154, кн. 1. С. 130-141.
- Теория и методология исторической науки: Терминологический словарь / Отв. ред. А. О. Чубарьян, Л. П. Репина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аквилон, 2016. 543 с.
- Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134-148.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 603 с.