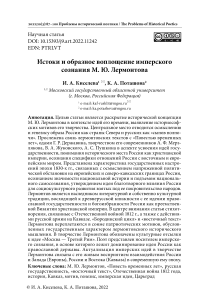Истоки и образное воплощение имперского сознания М. Ю. Лермонтова
Автор: Киселева Ирина Александровна, Поташова Ксения Алексеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является раскрытие исторической концепции М. Ю. Лермонтова в контексте идей его времени, выявление историософских мотивов его творчества. Центральное место отводится осмыслению и генезису образа России как страны Севера и русских как «сынов полночи». Прослежена связь лермонтовских текстов с «Повестью временных лет», одами Г. Р. Державина, творчеством его современников А. Ф. Мерзлякова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина в аспекте усвоения идей государственности, понимания исторического места России как христианской империи, осознания специфики отношений России с восточным и европейским миром. Представлена характеристика государственных настроений эпохи 1830-х гг., связанных с осмыслением напряженной политической обстановки на европейских и северо-кавказских границах России, осознанием значимости национальной истории и подъемом национального самосознания, утверждением идеи благотворного влияния России для социокультурного развития взятых под ее покровительство народов. Лермонтов является наследником литературной и собственно культурной традиции, восходящей к древнерусской книжности с ее идеями православной государственности и богоизбранности России как преемственной Византии христианской империи. В центре внимания статьи стихотворения, связанные с Отечественной войной 1812 г., а также с действиями русской армии на Кавказе. «Бородинский цикл» и «восточный текст» Лермонтова переплетаются в сонме патриотических мотивов, обусловленных государственным характером лермонтовского исторического мышления. В творчестве Лермонтова обозначены культурные отсылки к идее «Москва - Третий Рим». Поэт представлен носителем имперского сознания, в основе которого лежит доминирование идеи России как православной державы. Актуализация имперских идей в творчестве Лермонтова связана с его живым восприятием взаимодействия России и Запада (Европы), России и Востока (Кавказа) в современную ему эпоху.
М. ю. лермонтов, "повесть временных лет", русская государственность, "восточный текст", отечественная война 1812 года, история, кавказ, мотив, генезис, имперская идея, царьград
Короткий адрес: https://sciup.org/147238732
IDR: 147238732 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11242
Текст научной статьи Истоки и образное воплощение имперского сознания М. Ю. Лермонтова
Н е ставя в центр своих поэтических размышлений политические или идеологические вопросы, Лермонтов тем не менее являлся носителем имперского сознания, связанного с идеей России как христианской державы, что сквозит в его литературном наследии, проявляясь в сонме патриотических мотивов. Имперские идеи Лермонтова соотносятся с проблемами осмысления взаимодействия России и Востока, России и Запада. В рамках восприятия и представления им русско-восточных отношений наиболее значимым представляется весь кавказский текст Лермонтова — его стихотворения и ориентальные поэмы, тогда как русско-европейские отношения художественно явлены в стихотворениях, посвященных войне 1812 г.
Эти два условных цикла объединяют образ России как страны Севера и образ русских как «сынов полночи». Они предстают у Лермонтова и в его «восточном» тексте, связанном по преимуществу с Кавказской войной, и в произведениях, где Россия противопоставлена Западу (Европе), а также в текстах, где утверждается великое прошлое России в ее древней государственности. «Сыны снегов, сыны славян…»1 — так называет поэт своих предков в раннем стихотворении «Нов город» (1830); в образе «сынов полночи» ( Лермонтов , т. 1: 290)
русские воины представлены в его стихотворении «Поле Бородина» (1830–1831), в котором констатируется значимость события Бородинской битвы; в «Споре» (1841) русские полки движутся именно с Севера — «вот на Севере в тумане // Что-то видно, брат» ( Лермонтов , т. 2: 194).
В своей образной системе Лермонтов — наследник литературной и собственно культурной традиции, восходящей к древнерусской книжности, интенсивность интереса к которой в конце XVIII — первой трети XIX в. подтверждается коллекционированием, публикацией и изучением памятников XI–XIII вв. Только «Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку публиковалась в 1804, 1811, 1824 гг. Именно к «Повести временных лет» восходит образ «сынов полночи» — в летописи используется архаическая библейская стилистика с ее акцентом на родовые отношения, связанные с населением земли сыновьями Ноя. Уже в самом своем полном историческом заглавии «Се повѣсти времяньныхъ лѣтъ, откуду есть пошла Руская земля, кто въ Киевѣ нача первѣе княжити, и откуду Руская земля стала есть»2 памятник содержит идею государственности, проявившуюся в объяснении территориального расселения племен («откуду есть пошла Руская земля»), в установлении правящей династии («кто въ Киевѣ нача первѣе княжити»), в утверждении именования Русского государства («откуду Руская земля стала есть»). Относительно горы Арарат, у которой «по потопѣ трие сынове Ноеве раздѣлиша землю» ( ПВЛ : 1), русская земля относится к странам Севера, названных «полуночью». Летописец сообщает, что «яся въстокъ Симови», «Хамови же яся полуденьная страна», «Афету же яшась полунощныя страны и западныя» ( ПВЛ : 1), уточняет, что «въ Афетовѣ же части сѣдятъ Русь, Чюдь и вси языци» и «полуночь сосѣдится съ племянемъ Хамовымъ» ( ПВЛ : 2). Изучающий историческое происхождение Руси по древним источникам, М. В. Ломоносов, несомненно, знакомый с «Повестью временных лет», воспел «полночную страну» («Вечер нее размышл ение о Божием Величестве») и стал первым
«русским поэтом Севера» [Марков: 4]. Еще интенсивнее мотив Севера по отношению к России звучит в одах Г. Р. Державина, создавшего, как отмечает И. А. Есаулов, «высокий, грозный, но весьма позитивный образ России» [Есаулов: 49]. Так, в оде «На взятие Измаила» (1791) Державин пишет: «Уже отъ сѣвернаго свѣта // Лице блѣднѣетъ Магомета, // И мрачный отвратилъ онъ взоръ»3. Примечательно, что Державин выстраивает образную систему текста от современности вглубь истории до времени патриархов, до времени, от которого ведет начало «Повесть временных лет». Поэт вводит образ праотца славян Иафета ( «Афетъ, сынъ Ноевъ, которому на часть досталась Европа» ( Державин , т. 1: 356) ) и доходит до того же этапа, с которого начинается «Повесть временных лет».
В начале XIX в. мотив Севера звучит достаточно интенсивно. Так, учитель Лермонтова в Московском университетском Благородном пансионе, приглашаемый бабушкой поэта Е. А. Арсеньевой для частных уроков по изящной словесности, А. Ф. Мерзляков в стихотворении «На Высочайшее прибытие его императорского величества в Москву 6-го декабря 1809» обращается к Александру I: «Сiяй и согрѣвай насъ, Сѣвера Денница!»4.
В. Ф. Раевский в стихотворении «Песнь воинов перед сраженьем» (1812(13)), сравнивая Наполеона с персидским царем («Сей новый Ксеркс»5), угрожающим греко-римскому миру, вспоминает победы русских над шведами, сарматами («сарматов плен и шведов рок»6), полчищами Батыя («Узреть Батыевы могилы»7), тогда как русские у него «сыны полуночи суровой»8. Актуализация образа «сынов полночи» характерна для развития тем, связанных с укреплением российских рубежей, с героическими подвигами, с исторической памятью. В стихотворении Жуковского «Русская слава» (1831), вызванном усмирением Варшавского восстания, поэт представляет экскурс в древнерусскую историю:
«Призвал варяга Славянин;
Пошли гулять их буйны рати;
Кругом руля полночных братий Взревел испуганный Эвксин… Но вышел Святославов сын И поднял знамя Благодати»9.
В черновике византийские аллюзии звучат еще более явственно, возникает образ Царьграда и щита князя Олега, прибитого по легенде к воротам города после его покорения:
«Взыграли вьюг полночных чада;
Уж море грекам не ограда;
Ревет испуганный Эвксин…
И наш железный исполин
Прибил свой щит к вратам Царьграда» ( Жуковский , т. 2: 669).
Поэт нарочито использует греческое название Черного моря — Эвксин, вспоминает щит князя Олега Святославича — первого киевского князя из династии Рюриковичей, использует модель архаического парафразиса для обозначения русских — «вьюг полночных чада» ( Жуковский , т. 2: 669).
Мотив Царьграда в русском сознании напрямую связан с идеей «Москва — Третий Рим» и с тем, что Россия унаследовала после «падения Византии миссию христианской империи» [Тарасов: 99]. Наиболее ярко он звучит в поэзии Державина, так как взятие турецкой крепости Измаил в 1790 г. было знаковым событием, связанным с «Греческим проектом» императрицы Екатерины II, в основе которого лежала идея утверждения православия в покоренном когда-то турками Константинополе:
«Священный гробъ освободить, Афинамъ возвратить Афину, Градъ Константиновъ Константину И миръ Афету водворить» ( Державин , т. 1: 356).
Описание геополитических планов императрицы Державин дополняет комментариями, в которых объясняет свои иносказания: «Т. е. городъ Афины возвратить богинѣ Минервѣ, подъ которою разумѣется Екатерина. Константинополь подвергнуть державѣ в. к. Константина Павловича, къ чему покойная государыня всѣ мысли свои устремляла» ( Державин , т. 1: 356).
Локус пути в Царьград, обозначающий дорогу из Белграда (Балканы) в Стамбул (Константинополь-Царьград), присутствует и в ранней поэме Лермонтова «Корсар» (1828):
«Воспоминанье здесь одною Прошедшей истиной живет. Там Цареградский путь идет Чрез поле черной полосою» ( Лермонтов , т. 3: 43).
Царьград представляется Лермонтовым в поэме как часть Греции:
«Я шел, не чувствуя себя;
Я был в стремительном волненье, Увидев, Греция, тебя!» ( Лермонтов , т. 3: 43).
Властителей захваченных греческих территорий лирический поэт называет варварами, разорившими греческую цивилизацию:
«Меж скал, где в счастья упоеньи
Фракиец храбрый пировал;
Теперь всё пусто. Вспоминанье Почти изгладил ток времен, И этот край обременен
Под игом варваров» ( Лермонтов , т. 3: 43).
Тема освобождения христианских земель от инокультурного владычества у Лермонтова присутствует пунктирно, и здесь можно отметить поэму «Две невольницы» (1830), в которой также возникает образ Царьграда: «Заснул обширный Цареград» (Лермонтов, т. 3: 65). В поэме «Две невольницы» пленная гречанка не отвечает на любовь султана, ее не прельщают его обещания владычества — «У ног твоих богатства мира // И правоверная земля» (Лермонтов, т. 3: 64), в которых звучит архаический мотив искушения, позднее вплетенный Лермонтовым в поэму «Демон» (1839), где падший ангел обещает Тамаре вселенское могущество: «И будешь ты царицей мира, // Подруга первая моя» (Лермонтов, т. 4: 209). В «Двух невольницах» Лермонтов сталкивает представителей трех культур: греческой («гречанка нежная» — Лермонтов, т. 3: 64), османской («Султан Ахмет» — Лермонтов, т. 3: 64) и испанской («испанка внемлет» — Лермонтов, т. 3: 66). Их нетипичная встреча в одном тексте может восходить к XIV–XV вв., когда в сонме различных военных союзов было и испано-византийское содружество против Османской империи (XIV в.), которая все же одерживает победу и захватывает Константинополь (XV в.). Но если испанка предпочитает страсть памяти жизни «на берегу Гвадалкивира» (Лермонтов, т. 3: 66) (река в Испании), то гречанка верна «первой страсти» (Лермонтов, т. 3: 65) и отвергает любовь султана. Внешний пласт повествования связан с мотивами ревности и мщения, акцентируемыми эпиграфом из трагедии У. Шекспира «Отелло» и трагической развязкой, связанной с гибелью прекрасной гречанки: «Чу! Томный крик… волной плеснуло…» (Лермонтов, т. 3: 66). Однако смысл текста не исчерпывается внешним сюжетом, его пафос определяется верностью первой любви. Гречанка готова принять смерть, но не отдать свое сердце новому властелину Царьграда:
«Любви из сердца ледяного Ты не исторгнешь: я готова!
Скажи, палач готов ли твой?» ( Лермонтов , т. 3: 65).
Образ Царьграда довольно част для лермонтовской эпохи. Так, А. С. Пушкин упоминает легендарный город в «Песне о вещем Олеге» («Твой щит на вратах Цареграда»10), в «Езерском» («При Ольге сын его Варлаф // Приял крещенье в Цареграде»11), в «Евгении Онегине» («Янтарь на трубках Цареграда»12). В журнале «Современник», в том же шестом номере за 1837 г., где было впервые опубликовано стихотворение Лермонтова «Бородино», напечатаны и главы из незаконченного романа Пушкина «Арап Петра Великого». В V главе романа Пушкин вкладывает в уста своего героя Гавриила Афанасьевича Ржевского историю предка — арапа Ибрагима (Абрама Петровича Ганнибала): «“Онъ роду непростаго”, — сказалъ Гаврила Афа-насьевичъ: “онъ сынъ арапскаго салтана. Басурмане взяли его въ плѣнъ и продали въ Цареградѣ, а нашъ посланникъ вы-ручилъ и подарилъ его Царю. Старшiй братъ арапа прiѣзжалъ въ Россiю съ знатнымъ выкупомъ и…”»13. Примечательно, что упоминания Царьграда и история с арапом получают сиюминутную оценку собеседника: «Cлыхали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича!»14. При всем ироническом модусе повествования, можно утверждать, что в сознании автора выстроен следующий ассоциативный ряд: басурманская власть в Царьграде, личные родовые корни, образы Бовы-королевича и Еруслана Лазаревича. Об интересе Пушкина к последним свидетельствуют и его юношеская незаконченная поэма «Бова» (1814), и литературные сказки (прежде всего, «Сказка о Золотом Петушке», где единственным нареченным героем оказывается царь Дадон, имя которого носил и отец Бовы), а также письмо к П. Я. Чаадаеву, в котором он говорит о жизни полной «кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность народов»15. В. А. Кошелев подчеркивал, что «Пушкина занимала еще и “историософская” составляющая сказочного повествования о давнопрошедших, “сказочно-богатырских” временах» [Кошелев: 143].
Знакомство Лермонтова с этим выпуском пушкинского журнала, изданным «по смерти его» друзьями, не вызывает сомнения. Лермонтов мог получить журнал уже будучи на Кавказе (цензурное разрешение на выпуск было дано 2 мая 1837 г.). Примечательно, что образ Еруслана Лазаревича у Лермонтова встречается именно в его «восточном» тексте — наброске «У России нет прошедшего…» (1841) из «Записной книжки, подаренной В. Ф. Одоевским». Лермонтов уподобляет Россию сказочному исполину Еруслану Лазаревичу, который с помощью необычайной силы победил иноплеменников: «Ерусланъ Лазаревичь сидѣлъ сиднемъ 20 лѣтъ и спалъ крепко но на 21 году проснулся отъ тяжелаго сна, и всталъ и пошелъ и встрѣтилъ онъ тридцать семь Королей и 70 богатырей и побилъ ихъ и сѣлъ надъ ними царствовать»16. Присутствующий в заметке народный элемент сопряжен с величием Российской Империи: в образе богатыря «аллегорически выражена концепция видения России великой Империей, утверждение которой простирается на Восток» [Киселева, Поташо-ва: 278]. Акцентируемое Лермонтовым в наброске фольклорное начало при изображении русской мощи является знаковым для его художественной системы. Черты фольклорного стиля присутствуют и в его балладе «Два великана» (1832), в которой представлено аллегорическое противопоставление России и наполеоновской империи:
«В шапке золота литого
Старый русский великан Поджидал к себе другого Из далеких чуждых стран» ( Лермонтов , т. 2: 51).
Акцентируемый в стихотворении возраст русского великана («старый») указывает на укоренную в веках незыблемость российской государственности, тогда как не имеющий истории «трехнедельный удалец» (образ империи Наполеона) терпит поражение.
В «восточном» тексте Лермонтова также лейтмотивом проходит идея величия и духовной избранности российского государства. В поэме «Измаил-Бей» (1832), обозначенной как «восточная повесть», Лермонтов, с одной стороны, показывает сопротивление горцев русской армии, с другой — констатирует неминуемость их «подданности имперской власти» [Ерохин и др.: 1153]. В поэме отчетливо звучит идея «Москва — Третий Рим»:
«Смирись, черкес! и запад и восток, Бы ть может, скоро твой разделят рок.
Настанет час — и скажешь сам надменно: Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час — и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!» ( Лермонтов , т. 3: 201).
Образ утверждения русских на Кавказе у Лермонтова показан двупланово. С одной стороны, поэт проникается свободным характером горцев, представляет их как детей природы, восхищается великолепием устремленных к небу девственных пространств Кавказского Хребта, с другой стороны, понимает необходимость укрепления государственных границ Российской Империи, которая воспринимается им «защитницей и покровительницей» [Захаров: 50], оплотом христианского мира.
Примечательно, что в поэме «Мцыри», поставив в центр изображения порыв героя к естественной свободе, показав внутренний мир романтического героя, его бунтующее начало и жажду скинуть с себя любые внешние ограничения, Лермонтов констатирует состояние исторической действительности после вмешательства русских в освобождение православного Кавказа от зависимости мусульманской Османской Империи. Просьба о заступничестве русских запечатлена Лермонтовым в первой строфе поэмы, оживляющей прошлые героические времена:
«Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ» ( Лермонтов , т. 4: 148).
На уровне поэтики текста поэмы «Мцыри» жизнь главного героя показана посредством сменяющих друг друга и поддающихся иллюстрированию крупных планов (встреча с девушкой, битва с барсом, беседа Мцыри с монахом в келье и т. д.), тогда как исторический императив представлен на общем жизнеутверждающем плане процветания христианского государства, получившего защиту со стороны России:
«И божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
3а гранью дружеских штыков» ( Лермонтов , т. 4: 149).
Именно общий план текста и определяет идею поэмы, связанную с укреплением христианства на восточных рубежах России. Аналогом такого общего плана и доминантой смысла текста являются и пророчества о новом Августе в поэме Лермонтова «Измаил-бей», тогда как личная судьба героя поэмы иллюстрирует путь частного человека в определенных исторических обстоятельствах; «сложность и многообразие проявлений человеческой жизни, изображенные в произведениях поэта, получают верный вектор интерпретации именно исходя из главной идеи текста» [Киселева: 86].
В сознании Лермонтова взаимоотношения России и Востока, России и Европы имели своего рода единый характер, заключающийся в необходимости России защищать свои пограничные области в интересах православной государственности. Лермонтовская концепция истории опирается как на его личное восприятие исторического времени, так и на литературную традицию, на явленные в художественном наследии его старших современников имперские идеи. В художественной историософии Лермонтова произведения «бородинского цикла» и «восточный текст» дополняют друг друга, взаимодействуя и переплетаясь в общих образах и мотивах, связанных с формированием представления об историческом значении России и ее места в мировом историческом процессе.
Список литературы Истоки и образное воплощение имперского сознания М. Ю. Лермонтова
- Ерохин А. М., Авдеев Е. А., Воробьев С. М. Национальная политика Российской империи на Северном Кавказе в XIX - начале XX веков // Былые годы. 2021. № 16 (3). С. 1153-1161.
- Есаулов И. А. Образ государства российского в русской литературе XVIII века: некоторые парафрастические параллели // Русская литература и национальная государственность XVIII-XIX вв.: тезисы докладов Междунар. науч. конф. к 500-летию Московского Новодевичьего монастыря и 300-летию провозглашения Российской империи (г. Москва, 13-15 октября 2020 г.). М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 47-49.
- Захаров В. Н. Имперская идея Ф. М. Достоевского // Русская литература и национальная государственность XVIII-XIX вв.: тезисы докладов Междунар. науч. конф. к 500-летию Московского Новодевичьего монастыря и 300-летию провозглашения Российской империи (г. Москва, 13-15 октября 2020 г.). М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 49-50.
- Киселева И. А. О познавательно-ценностном подходе к творчеству М. Ю. Лермонтова: телеология текста // Вестник МГОУ. Серия: Русская филология. 2013. № 6. С. 82-87.
- Киселева И. А., Поташова К. А. Набросок Лермонтова "У России нет прошедшего…" в контексте "восточного вопроса": к проблеме художественной историософии поэта // Научный диалог. 2022. Т. 11. № 3. С. 265-283.
- Кошелев В. А. Царь Дадон и принц Датский // Русская литература. 2004. № 2. С. 138-145.
- Марков Н. Ф. Русский север в произведениях М. В. Ломоносова. Речь, чит. в торжеств. собр. "Вологод. о-ва изучения Северного края" в день чествования 200-лет. памяти Ломоносова 8 нояб. 1911 г. Вологда: Тип. н-в А. В. Гудкова-Белякова, 1912. 17 с.
- Тарасов Б. Н. Понятия "христианской империи" в историософии Ф. И. Тютчева // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 4. С. 94-103.