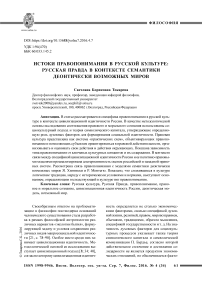Истоки правопонимания в русской культуре: Русская Правда в контексте семантики деонтически возможных миров
Автор: Токарева Светлана Борисовна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (34), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается специфика правопонимания в русской культуре в контексте цивилизационной идентичности России. В качестве методологической основы исследования соотношения правового и морального сознания использованы социокультурный подход и теория символического капитала, утверждающие определяющую роль духовных факторов для формирования социальной идентичности. Правовая культура представлена как система «практических схем», объективирующих правопонимание и позволяющих субъектам ориентироваться в правовой действительности, организовывать и оценивать свои действия и действия окружающих. Показана зависимость типа правопонимания от ключевых культурных концептов и их содержания. В контексте связи между спецификой цивилизационной идентичности России и ее политико-правовыми моделями проанализирована альтернативность оценок российской и западной правовых систем. Рассмотрена связь правопонимания с моделями семантики деонтически возможных миров Я. Хинтикки и Р. Монтегю. Показано, что сложившиеся в культуре логические традиции, наряду с историческими условиями и нормами, выступают основанием, определяющим господствующий в культуре тип правопонимания.
Русская культура, русская правда, правопонимание, правовое и моральное сознание, цивилизационная идентичность России, деонтическая модель, возможный мир
Короткий адрес: https://sciup.org/14974995
IDR: 14974995 | УДК: 1:94(470) | DOI: 10.15688/jvolsu7.2016.4.7
Текст научной статьи Истоки правопонимания в русской культуре: Русская Правда в контексте семантики деонтически возможных миров
DOI:
Своеобразным ответом на проблемати-зацию в философии постмодерна оснований человеческого существования стала разработка в рамках философской антропологии различных вариантов «экологии бытия», формулирующей задачу и условия сохранения различных видов макросоциальной идентичности [21, с. 78–90]. Особое место среди них занимает цивилизационная идентичность. Методологической основой ее исследования выступает цивилизационный подход [8; 34; 40], согласно которому цивилизационная идентич- ность определяется не столько экономическими факторами, сколько спецификой духовной жизни, религией, правом, мировоззрением, обычаями, традициями, образом мышления, спецификой государственности и т. д. На значимость духовных факторов для социокультурных процессов указывает также теория символического капитала и символической коммуникации П. Бурдье, согласно которой действительное сплочение и достижение солидарности не является продуктом экономических отношений, но обеспечивается факто- рами духовного порядка, образующими в своей совокупности «коллективный символический капитал» [33]. А.С. Панарин развил теорию символического капитала, показав, что символы и мифы не просто являются составной частью духовных ценностей, но играют активную роль в производстве «социально мобилизованной духовности, выступающей как инструмент людского социального сплочения» [26, с. 119].
По сути, цивилизационная идентичность аккумулирует в себе другие виды макросо-циальной идентичности – национальную, религиозную, культурную, гражданскую, правовую. Поэтому введение в научный оборот концепта «правовая идентичность» [14, с. 4] не только открыло новые возможности в познании доминирующего в стране типа правопо-нимания и правовой культуры, но и стало ключом к осмыслению ее цивилизационной идентичности в целом [22, с. 399]. Выявлению связи между спецификой цивилизационной идентичности России, с одной стороны, и ее политико-правовыми моделями и особенностями правопонимания, с другой стороны, посвящены работы многих авторов [10; 11; 13; 16–19; 26]. Актуальность этих исследований связана с поиском теоретических оснований для преодоления кризисных явлений постсоветской эпохи, несущей на себе печать «смутного времени», «опасной неопределенности» в государственной жизни, «стратегической нестабильности» [26]. Обращение к этой тематике у части авторов было обусловлено стремлением противостоять попыткам части российской политической элиты толкнуть Россию на путь «“цивилизационно надломленной” (пытающейся сменить свою цивилизационную идентичность) страны» [38, с. 80]; другие, напротив, считали смену Россией своей цивилизационной идентичности уже состоявшейся и необратимой в связи с конституционным принятием в период 90-х гг. концепции правового государства и закреплением преобладания международного гуманитарного права над российским [24].
Интерес со стороны современной социологии к правосознанию как системе представлений, включающих важнейшие составляющие символического капитала – ценности, нормы, принципы, – определяется принципом «двойно- го структурирования» социальной реальности П. Бурдье, показавшему, что социальная реальность зависит от человеческих представлений в той же мере, что и от реальных социальных отношений и практик. При этом конструирование социальной реальности вообще и правовой реальности в частности осуществляется в соответствии со сложившимися «практическими схемами», установками и приобретенными предрасположенностями, которые П. Бурдье обозначил понятием габитуса. Исследования В.И. Карасика показали, что нормы поведения имеют прототипный характер, то есть мы храним в памяти знания о типичных установках, действиях, оценочных реакциях применительно к тем или иным ситуациям [15]. Габитус как «предрасположенность агента к поведенческому акту, действию, поступку и их последовательности, или осознанная готовность к оцениванию ситуации и к поведению, обусловленному предшествующим опытом» обеспечивает согласование символического капитала с жизненными целями, проектами и практиками [39, с. 63].
Правовая культура функционирует как система «практических схем», объективирующих правопонимание и позволяющих субъектам ориентироваться в правовой действительности, организовывать и оценивать свои действия и действия окружающих. Эти «практические схемы» восприятия и оценивания правовых ситуаций как осмысленных и разумных формируются в рамках национальной культурно-логической традиции, чем и обусловлено различие между русской правовой культурой и западной. Вне зависимости от того, рассматривались ли особенности российского правопо-нимания с позиций «догоняющей модернизации» либо, напротив, расценивались как проявление уникальности русской культуры, их теоретическое объяснение осуществлялось путем сравнения с западноевропейским правовым мышлением. Российская традиция осознавать и идентифицировать себя через сопоставление с Европой сложилась во времена русского Просвещения и сохраняется до настоящего времени [22; 25]. Компаративные исследования русской и западной культур свидетельствуют о безусловной самобытности России и ее отличии от Запада, «большей частью идеализированного и воображаемого» [3, с. 39]. Однако оценки этой самобытности носят субъективный характер: одни подчеркивают превосходство идеалов западной культуры, опирающейся, в отличие от русской, на общую правовую основу и формально-правовое устроение гражданской и частной жизни [24]. Другие, соглашаясь, что Россия не может претендовать на реализацию идеи социального государства, утверждают оригинальность русской государственности, вытекающую из ее нравственной миссии: «Государство российское есть оружие, стоящее на стороне слабых против сильных и тем самым ломающих “нормальную” земную логику, как и логику либерального “естественного отбора”, согласно которой сильные естественным образом торжествуют над слабыми» [26, с. 210].
Историко-правовые исследования показали, что характер конкретного типа правосознания закладывается уже в период господства мифопоэтического мировоззрения и определяется характерными для данной культуры пред-правовыми мифологическими и историческими сюжетами, выступающими источником фольклорных и юридических текстов. По содержанию эти сюжеты – прародители будущих юридических формул – схожи: в них описывается борьба добра со злом, разрешение конфликта представлено как восстановление справедливости и т. д. [35]. Вместе с тем эти сюжеты в разных культурах существенно различаются уровнем дифференциации личностного и коллективного, правового и моральнорелигиозного, и именно это различие определяет индивидуальность и культурную специфику вырастающего из них конкретного правосознания.
Выводы исследователей из сравнительного анализа российской и западной правовых систем также характеризуются субъективностью оценок. Так, А. Медушевский рассматривает российское право как часть романогерманской системы, разделяющую с последней основные характеристики. По его мнению, «религиозные представления играли существенную, но не определяющую роль в формировании русской правовой традиции», поскольку при создании юридических текстов православные религиозные нормы не заимствовались непосредственно из священных текстов (как в мусульманстве и иудаизме), не черпались напрямую из традиции (как в индуизме) и не совпадали с этическими нормами (как в конфуцианстве) [24]. Таким образом, по мнению автора, роль православия в формировании русской правовой культуры сильно преувеличена и по сравнению с другими культурами «в Древней Руси непосредственное влияние религиозных норм должно быть признано менее значительным» [24].
Напротив, Л.Е. Лаптева, В.В. Медведев, М.Ю. Пахалов полагают, что главная и самая очевидная особенность русского права – отсутствие выраженного влияния на него римского права [23]. И причина здесь не только в том, что российское правопонимание складывалось в условиях утверждения православия и что общим началом русской цивилизации послужили православные идеалы [12; 27; 30; 31], но в понимании русским самосознанием (по сравнению с западным) самого идеала, который воспринимается как моральный идеал, связанный либо с общехристианской идеей Божественного замысла, либо (в послереволюционную эпоху) с нереализованным общечеловеческим проектом. Поэтому русская цивилизация оказывается «не столько безоговорочно принимаемой реальностью, сколько идеей, существующей больше в голове, чем в действительности» и представляет собой скорее нереализованный проект, нежели наличную, реальную систему отношений [25].
Склонность русского человека ориентироваться на моральные идеалы находит подтверждение в исследованиях лингвистов и культурологов. Так, польский лингвист А. Вежбицкая в качестве основного свойства русского народа (наряду с эмоциональностью, антирационализмом и неагентивностью) называет «любовь к моральным суждениям» [6, с. 33–88]. Проведенные ею исследования показывают, что «в целом ряде русских слов и выражений отражается тенденция <…> высказывать абсолютные моральные суждения и связывать моральные суждения с эмоциями, так же как и акцент на “абсолютном” и “высших ценностях” в культуре в целом» [5]. Обобщения относительно присущих русской культуре акцентов на «абсолютном», «страсти к моральным суждениям», «категорических оценочных суждений» и т. д. базируются на исследовании ключевых слов (концептов), которые представляют собой сложные идеи, отражающие и передающие образ жизни и образ мышления, характерный для данного общества или языковой общности и являющиеся ключом к пониманию обычаев данной культуры, поскольку именно вокруг них организованы целые культурные области [5]. В группу ключевых, типично русских концептов исследователи единодушно включают концепты «совесть» и «справедливость» [6; 29]. Их изучение позволяет не только обнаружить организационные принципы, структурирующие культурную сферу в целом, но и создать объяснительные схемы для отдельных областей культуры, в частности для правовой сферы [5].
Альтернативность оценок российской и западной правовой систем может объясняться отсутствием общего знаменателя при сравнении ключевых культурных понятий, связанных с развитием права («правда», «справедливость», «закон», «совесть»). Корректность компаративной процедуры ставится под сомнение в связи с тем, что обобщенные правовые схемы, идеи и идеалы одной культуры сравниваются с реальным опытом функционирования права и правового государства в другой культуре. Так, В.В. Бибихин подчеркивает, что, в отличие от Запада, в России правовое и государственное устройство оценивают не прагматично, не «технически», не в стиле размышлений об администрации, выборах и налогах; здесь «строй чаще чем об административных недостатках заставляет думать о правде и неправде, вере и Боге, о последних вещах (о смерти, о цели жизни)» [3, с. 50]. Анализируя «Оправдание добра» Вл. Соловьева – «первое в России сочинение, где предпринимается попытка мировоззренчески-си-стематического осмысления юридической проблематики», Э.Ю. Соловьев пишет: «Правовые нормы в понимании В.С. Соловьева не имеют никакого отношения к личным и гражданским свободам, записываемым в конституциях. Это просто подвид нравственных норм, а именно простейшие заповеди, запреты (не убий, не обманывай, не укради и т. д.), поскольку они поддерживаются с помощью государственного насилия и предъявляются подданным в форме того или иного “уложения о наказаниях”. Право получает в итоге откровенно запретительную трактовку» [32, с. 230–
231]. Такая трактовка права характерна, по мнению Э.Ю. Соловьева, для культуры традиционного общества, в котором острая этическая критика господствующего правосудия не исходит из содержания правовой нормы («строгого права», «права по понятию»), из различия между правом и законом. Оборотной стороной высоких моральных качеств русского народа является дефицит правосознания, выражающийся в отсутствии уважения к индивидуальной нравственной самостоятельности и в упорном сопротивлении идее примата справедливости над состраданием. Отечественная философия, по мнению Э.Ю. Соловьева, отличается дефицитом правопонимания, связанным с ее этикоцентризмом и проповедью абсолютно нравственного подхода к жизни. По этой причине в нашем культурном наследии отсутствует философия права [32, с. 230].
В этой связи встает задача поиска более надежных оснований для сравнения российского и западного правосознания. На наш взгляд, таким основанием могут служить сложившиеся в культуре логические традиции, которые, наряду с историческими условиями и нормами, определяют господствующий в культуре тип правопонимания.
На логическом строе русского мышления не могло не отразиться стремление видеть во всем не фактическое положение вещей, не реальные отношения, а идеал. Нормы в качестве составляющей деонтической модальности рассматриваются в работах А.П. Бабушкина [2], Л.Г. Ефановой [9], Т. П. Филичкиной [36]. По мнению Т. П. Филичкиной, «различие деонтических норм объясняется различиями концептуальных и ценностных картин мира русской и английской языковой личности, что определяется особенностями их культуры» [36]. Поэтому сравнение русского и западного право-понимания необходимо проводить с учетом лежащих в их основе логико-деонтических моделей, воспроизводящих нормативную структуру логики действий. Такой подход открывает новые возможности изучения сверхсложных и слабо формализованных социокультурных процессов и дополняет их логико-философское осмысление и привычные статистические методы.
В.И. Карасик указывает, что нормы поведения имеют прототипный характер: мы храним в памяти знания о типичных установках, действиях, ожиданиях ответных действий и оценочных реакциях применительно к тем или иным ситуациям [15]. Сама норма выступает как идеальный (нормативный) прототип объекта: «Идентификация хорошего с нормой производится не относительно действительного, а относительно идеального состояния мира» [1, с. 234]. Идеальный характер нормы обусловливает возможность ее применения не только по отношению к реальному миру, но и к области деонтически возможных миров, а сама норма выполняет не только регулятивную, но и проецирующую функцию, поскольку отраженный в ней образ «может быть спроецирован на объекты не только настоящие, но и уже прошедшие, а также потенциальные и даже вообще не могущие… существовать» [9]. Опираясь на сформулированные И. Кантом «принципы возможного опыта», Л.Г. Ефанова предлагает анализировать присущую культуре на каждом историческом этапе меру (диапазон) возможного и невозможного через характерные для логики норм понятия «деонтически возможный мир» и «деонтическая альтернативность». Благодаря тому, что «в нормативный кодекс входят как сформулированные явным образом, так и производные от них возможные случаи применения той или иной нормы» [9], «с любым нормативным кодексом связана определенная совокупность ситуаций, множество возможных поступков (деонтически возможных миров), к которым данный кодекс приложим». Деонтически возможный мир – это определенная нормативная система, в которой реализованы моральные, правовые, технические нормы, правила игры и другие познавательные и деонтические принципы, обеспечивающие возможное положение дел, возможное развитие событий [20, с. 136]. Как утверждает один из основоположников семантики возможных миров Я. Хинтикка, возможные миры – это вероятное положение дел по отношению к субъекту, находящемуся в мире реальном и проецирующему свое реальное «я» в иные мыслительные пространства [37].
А.П. Бабушкин указывает на роль текста и контекста в формировании возможного мира: «Одним из основополагающих моментов семантики возможных миров является выбор возможных миров неким индивидом… Когда говорят “возможно” или “необходимо”, то имеют в виду не все множество возможных миров, а множество, некоторым образом ограниченное контекстом речевого акта и, прежде всего, знаниями, которыми обладают говорящие субъекты, набором их презумпций, их представлениями о законе, морали, физических возможностях, о том, что считается естественным и нормальным и т. д.» [2].
В рамках деонтической логики, изучающей логические свойства нормативных высказываний о должном, были разработаны две модели деонтической модальности: описанная Я. Хинтиккой стандартная семантика норм, опирающаяся на формулу «должно быть», и описанная Р. Монтегю обобщенная семантика норм для деонтической модальности, в основе которой лежит формула «должно быть сделано». Представляется, что и русская, и западная культуры первоначально развивались в рамках первой логической схемы, описанной Хин-тиккой, в которой система норм коррелирует с идеалами и предполагает трактовку нормы как обязательства, вменения, запрета [20]. Русская культура сохранила тяготение к стандартной семантике возможных миров для деонтических модальностей: в ней должное выступает как идеал, а норма – как принцип, трудноприложимый к конкретным действиям. Западная культура, напротив, со временем перешла к иной логической модели, описываемой обобщенной семантикой возможных миров для деонтических модальностей Монтегю, где нормы обеспечивают и регламентируют человеческие действия, направленные на реализацию замысла. Таким образом, в рамках второй модели нормы имеют инструментальный характер и выступают как гаранты и регуляторы человеческих действий [20].
По мысли В.В. Лапаевой, «истоки расхождений между западноевропейской и российской традициями правопонимания специалисты видят в глубинах религиозно-философской антропологии, где формируется специфический для византийско-московского православия подход к оценке человека не по деяниям его, а сквозь них, по принципу “не важно, что ты делаешь, важно, кто ты есть”» [22, с. 399]. Этот критерий оценки человека, воспринятый российской философско-правовой мыслью, предопределил свойственное ей «высокомерное презрение к новоевропейской политико-юридической культуре», для которой человек – это прежде всего совокупность его поступков [32, с. 232]. Это порождает и различное отношение к закону: в западной культуре он воспринимается как гарант свободы, в русской культуре – как ее ограничитель.
Между двумя вариантами семантики возможных миров для деонтических модальностей существует генетическая связь, и в определенных исторических ситуациях будет наблюдаться редукция производной деонтической схемы к исходной, исторически первичной модели. Эта редукция, как правило, носит вынужденный и краткосрочный характер меры, принимаемой в связи с необходимостью решить определенные ситуативные (например, политические) задачи. Так, в эпоху Великой французской революции во Франции – стране, в которой суды были наделены множеством полномочий и фактически были мало связаны с абсолютной монархической властью, – произошел возврат к практике прямого подчинения судов органу власти – Конвенту. Одновременно была произведена подмена оценки действий оценкой человека: «Политическая юстиция карает не преступление, а человека, которого превращают в преступника его убеждения, происхождение или социальное положение» [8, с. 8]. С этой целью вносятся соответствующие изменения в законодательство: точные «составы преступлений» заменяются в законе размытыми и неопределенными признаками «опасности» человека для революции [8, с. 8].
Исторически моральные нормы являются первичными. Получая поддержку с помощью государственного насилия, они превращаются в юридические нормы. На этом этапе утверждается традиционно-моральное понимание права, отождествляющее его с государственным карательным законом. Однако в определенных историко-политических условиях может произойти деградация юридических норм; тогда процесс идет в обратном направлении: юридические нормы редуцируются до моральных сентенций. Исторической иллюстрацией такого процесса может служить стремление якобинцев в период Великой французской революции заменить юридически ус- тановленную истину моральной истиной и использовать для обвинения и вынесения приговоров моральные доказательства.
Отличные от Запада условия трансформации в русской культуре моральных норм в юридические определили специфику цивилизационного развития Руси. В процессе легитимации своей власти русские князья, с одной стороны, использовали социально-политический ресурс православной церкви, опирались на нее, заимствовали у нее институциональные образцы; с другой стороны, они вынуждены были считаться с накладываемыми христианской религией идеологическими ограничениями. Ко времени правления Ярослава Мудрого, на которое приходится первый опыт кодификации гражданского права в Русской Правде, общественный статус православия был уже настолько высок, что верность православной вере выступала безусловным приоритетом по сравнению с любыми политическими дивидендами; защита веры считалась более важной, чем защита земель, городов, людей и имущества.
По мере того, как дифференцировались и дополнялись разнообразными смысловыми коннотациями первоначальные представления о законе, концепт «закон» превращался в устойчивое ментальное образование и своеобразную культурную константу. В Русской Правде древнерусские слова «закон» и «покон» использовались в значении предела, ограничивающего свободу воли и действий, а также в значении обычая, правила, установления, обязательства, регламентирующих отношения между людьми [28, с. 39]. В процессе христианизации славянства термин «закон» вовлекается в церковную речь и дополняется новыми смыслами («установление от Бога», «покаянное правило»). Позднее усложнение семантической структуры слова «закон» было связано с его использованием в качестве общего названия установленных государством юридических норм. На этом этапе в концепте «закон» выделяются: предметная сторона – возможность деонтической квалификации значимого с точки зрения права поступка субъекта и возможность наложения санкций в случае нарушения правовой нормы; понятийная сторона – кодифицированная норма, установленная и поддерживаемая государственной властью и традицией [28, с. 5].
Так благодаря чему представление о праве и законе превратилось в культурную константу? Э.Ю. Соловьев полагает, что сознание как отдельных людей, так и целых народов зависит от мемориальной общественной практики, благодаря которой живет традиция и обеспечивается «постоянное присутствие прошлого в актуальном сознании» [32, с. 3]. Таким образом, «люди прошедших эпох вовсе не капсулированы в своем времени: их высказывания и поступки почти всегда содержат в себе ответ… на повторяющуюся структурность общественных ситуаций, …имеющих собственную стихийную логику и свои модели личной ответственности» [32, с. 3].
При этом прагматические ситуации как таковые обобщению практически не подлежат, в отличие от моральных ситуаций и решений, которые легко поддаются типизации. Типологическая общность переживаемых моральных ситуаций духовно сближает людей, живущих в различные экономические и социальные эпохи, превращает их в качестве действующих и мыслящих моральных субъектов в современников. Срабатывает эффект «интерпретирующего вторжения прошлого» [32, с. 3], обусловленный, во-первых, тем, что, наряду с представлениями, принципами и идеями национальной культуры, мы опираемся на универсальные общечеловеческие понятия; во-вторых, преемственностью характерного для русской культуры логического строя мышления, базирующегося на господствующей модели деонтически возможного мира. Последняя выступает фактором, определяющим национальную и культурную специфику пра-вопонимания.
Список литературы Истоки правопонимания в русской культуре: Русская Правда в контексте семантики деонтически возможных миров
- Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений (Оценка, событие, факт)/Н. Д. Арутюнова. -М.: Наука, 1988. -341 с.
- Бабушкин, А. П. «Возможные миры» в семантическом пространстве языка/А. П. Бабушкин. -Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2001. -86 с. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://bookree.org/reader?file=529438 (дата обращения: 14.09.2016). -Загл. с экрана.
- Бибихин, В. В. Введение в философию права/В. В. Бибихин. -М.: ИФ РАН, 2005. -345 с.
- Брайчевский, М. Ю. Утверждение христианства на Руси/М. Ю. Брайчевский; пер. с укр. -Киев: Наукова думка, 1989. -97 с.
- Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://zavantag.com/docs/427/index-2017857.html (дата обращения: 25.10.2016). -Загл. с экрана.
- Вежбицкая, А. Язык, культура, познание/А. Вежбицкая. -М.: Русские словари, 1996. -416 с.
- Данилевский, Н. Я. Россия и Европа/Н. Я. Данилевский. -М.: Политиздат, 1991. -396 с.
- Дикарев, И. С. Парижский революционный трибунал. Очерк истории организации и деятельности (1793-1795 гг.)/И. С. Дикарев. -Волгоград: Царицын. полиграф. компания, 2006. -124 с.
- Ефанова, Л. Г. Категория нормы в русской языковой картине мира: автореф. дис.... д-ра филол. наук/Ефанова Лариса Георгиевна. -Томск, 2013.
- Жаде, З. А. Российская цивилизационная идентичность в меняющемся мире/З. А. Жаде//Власть. -2014. -№ 4. -С. 54-58.
- Зима, Н. А. Цивилизационная идентичность России в условиях глобализации/Н. А. Зима. -Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т, 2005. -175 с.
- Ильин, И. А. О сущности правосознания/И. А. Ильин. -М.: Рарогъ, 1993. -235 с.
- Ионов, И. Н. Цивилизационная самоидентификация как форма исторического сознания/И. Н. Ионов//Искусство и цивилизационная идентичность/отв. ред. Н. А. Хренов. -М.: Наука, 2007. -С. 169-187.
- Исаева, Н. В. Правовая идентичность: теоретико-правовое исследование: автореф. дис.... д-ра юрид. наук/Исаева Нина Валентиновна. -М., 2014. -49 с.
- Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/В. И. Карасик. -Волгоград: Перемена, 2002. -477 с.
- Ключевский, В. О. Курс русской истории. Лекция 15. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.portalus.ru/modules/rushistory/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1228972016&archive=1309634993&start_from=&ucat=& (дата обращения: 03.02.2016). -Загл. с экрана.
- Когатько, Д. Г. Российская идентичность: культурно-цивилизационная специфика/Д. Г. Когатько, В. Х. Тхакахов. -СПб.: Алетейя, 2010. -136 с.
- Кондаков, И. В. Цивилизационная идентичность России: сущность, структура и механизмы/И. В. Кондаков//Вопросы социальной теории. -2010. -Т. 4. -С. 282-304.
- Кондаков, И. В. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху/И. В. Кондаков, К. Б. Соколов, Н. А. Хренов. -М.: Прогресс-Традиция, 2011. -1024 с.
- Курбатов, В. И. Действия и нормы: исследование по логике деонтических модальностей: дис.... канд. филос. наук/Курбатов Владимир Иванович. -М., 1983. -138 с.
- Кутырев, В. А. Философия постмодернизма/В. А. Кутырев. -Н. Новгород: Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 2006. -95 с.
- Лапаева, В. В. Правопонимание как основа национальной правовой культуры (сравнительный анализ российской и западноевропейской правовой мысли)/В. В. Лапаева//Диалог культур и партнерство цивилизаций. Становление глобальной культуры: Х Междунар. Лихачев. науч. чтения. -СПб., 2010. -С. 399-400.
- Лаптева, Л. Е. История отечественного государства и права/Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов. -М.: Юрайт, 2015. -493 с.
- Медушевский, А. Н. Русская правовая традиция: система, структура, динамика в сравнительной перспективе. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.liberal.ru/articles/6484 (дата обращения: 11.10.2016). -Загл. с экрана.
- Межуев, В. М. Россия в диалоге с Европой/В. М. Межуев//Независимый альманах «Лебедь». -№ 5. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://lebed.com/2006/art4797.htm (дата обращения: 23.10.2016). -Загл. с экрана.
- Панарин, А. С. Стратегическая нестабильность в XXI в./А. С. Панарин. -М.: Алгоритм, 2003. -560 с.
- Петражицкий, Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности/Л. И. Петражицкий. -СПб.: Лань, 2000. -608 с.
- Сичинава, Н. Г. Слово «закон» в древности и сегодня/Н. Г. Сичинава//Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия: материалы III Междунар. науч.-практ. конф./отв. ред. В. Ю. Меликян. -Вып. 3. -Ростов н/Д: Дониздат, 2013. -С. 38-43.
- Степанов, Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации/Ю. С. Степанов. -М.: Языки славянских культур, 2007. -248 с.
- Соловьев, В. С. Оправдание добра/В. С. Соловьев; отв. ред. О. А. Платонов. -М.: Ин-т рус. цивилизации: Алгоритм, 2012. -656 с.
- Соловьев, В. С. Право и нравственность. Очерк из прикладной этики/В. С. Соловьев. -М.; Минск: АСТ: Харвест, 2001. -192 с.
- Соловьев, Э. Ю. Прошлое толкует нас/Э. Ю. Соловьев. -М.: Политиздат, 1991. -432 с.
- Социоанализ Пьера Бурдье. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. -М.: Ин-т эксперим. социологии. -СПб.: Алетейя, 2001. -288 с.
- Тойнби, А. Дж. Постижение истории/А. Дж. Тойнби. -М.: Айрис-пресс, 2002.
- Фалалеева, И. Н. Политико-правовая система Древней Руси IX-XI вв./И. Н. Фалалеева. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. -164 с.
- Филичкина, Т. П. Деонтические нормы в семантике фразеологических единиц русского и английского языков: автореф. дис.... канд. филол. наук/Филичкина Татьяна Петровна. -Орел, 2006.
- Хинтикка, Я. Логика в философии -философия логики/Я. Хинтикка; пер. с англ. В. Н. Брюшинкина//Логико-эпистемологические исследования. -М.: Прогресс, 1980. -С. 22-52.
- Цымбульский, В. Л. Идентичность цивилизационная/В. Л. Цымбульский//Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 2. -М.: Мысль, 2001. -С. 80.
- Шматко, Н. А. «Габитус» в структуре социологической теории/Н. А. Шматко//Журнал социологии и социальной антропологии. -1998. -Т. 1, № 2. -С. 60-70.
- Шпенглер, О. Закат Европы/О. Шпенглер. -Минск; М.: ХАРВЕСТ: АСТ, 2000. -1376 с.