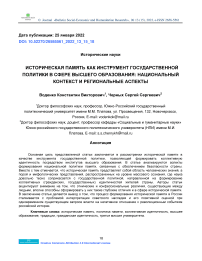Историческая память как инструмент государственной политики в сфере высшего образования: национальный контекст и региональные аспекты
Автор: Воденко Константин Викторович, Черных Сергей Сергеевич
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 13 (15), 2022 года.
Бесплатный доступ
Основная цель представленной статьи заключается в рассмотрении исторической памяти в качестве инструмента государственной политики, позволяющей формировать коллективную идентичность посредством институтов высшего образования. В статье анализируются аспекты формирования национальной политики памяти, связанные с обеспечением безопасности страны. Вместе с тем отмечается, что историческая память представляет собой область человеческих знаний, а порой и мифологических представлений, распространенных на уровне массового сознания, где наука довольно тесно соприкасается с государственной политикой, направленной на формирование коллективных (гражданских, государственных) идентичностей жителей страны. Авторы статьи акцентируют внимание на том, что этнические и конфессиональные различия, существующие между людьми, вполне способны сформировать у них также глубокие отличия и в сфере исторической памяти. В заключение статьи делается вывод о том, что процесс формирования исторической памяти в России сталкивается с проблемой интерпретации советского наследия и его позитивной оценкой при одновременном существующем запросе власти на негативное отношение к революционным событиям российской истории.
Историческая память, политика памяти, коллективная идентичность, высшее образование, традиции, гражданская идентичность, третья миссия университета
Короткий адрес: https://sciup.org/14121309
IDR: 14121309 | DOI: 10.52270/26585561_2022_13_15_18
Текст научной статьи Историческая память как инструмент государственной политики в сфере высшего образования: национальный контекст и региональные аспекты
Память, и прежде всего память коллективная, играет ключевую роль в социуме, не только сохраняя, но и постоянно «перерабатывая» опыт прошлых поколений, тем самым осуществляя процесс дальнейшего культурного воспроизводства. В отличие от индивидуальной памяти человека коллективная память, как отдельной личности, так и вполне определенной социальной группы, может постоянно формироваться («форматироваться») и обогащаться посредством научных открытий, исторических реконструкций, а также изменяться в результате воздействия со стороны искусства. В современной России формирование исторической памяти находится прежде всего в зоне ответственности образовательных институтов, в особенности высшего образования, тесно связанного с отечественной наукой.
Тема исторической памяти является одной из наиболее важных для любой культуры, поскольку именно коллективная память противостоит забвению, которое вызывает страх потери идентичности, а также многих (накопленных) достижений цивилизации. «Но нельзя отрицать, что без крепких уз традиции (а они перестали быть крепкими несколько столетий назад) сфера прошлого тоже оказалась в опасности. Мы рискуем забыть, и такое забвение, – даже не принимая в расчет содержания того, что будет забыто, – для нас, людей, будет означать, что мы лишили себя одного из измерений человеческого существования, измерения глубины. Ведь память и глубина – это одно и то же, или, вернее, человек не может достичь глубины иначе, как через воспоминание» (Арендт, 2014. с. 142). Сохранение традиций, таким образом, входит в число первостепенных задач современного образования, в особенности, если они обеспечивают наиболее глубокие связи с историческим прошлым. Поэтому всегда важно сохранять культурные традиции, предания о прошлом, которые собственно и являются модусами активного выражения исторической памяти.
В определенном смысле память выступает основным носителем информации, поскольку будущее нам неизвестно, несмотря на самые точные прогнозы и подтвержденные предсказания, а само всегда ускользающее от нас настоящее фактически уже схватывается как недавнее прошлое, переходящее в него на наших глазах. Так, французский философ А. Бергсон считал, что «практически мы воспринимаем только прошлое, так как чистое настоящее представляет собой неуловимое поступательное движение прошлого, которое подтачивает будущее» (Бергсон, 1992 с. 254). Собственно, все наиболее значимые для нас события, не важно, рассматриваемые как факты личной биографии или имеющие непреходящее значение для многих людей страны или даже всего мира, запечатлеваются в нашем (коллективном/индивидуальном) прошлом и всегда осмысливаются (и переосмысляются) посредством памяти. Прошлое всегда можно обнаружить в нашем настоящем, даже если мы хотим его забыть, оно преследует нас, если мы осознаем, что в нем были совершены серьезные ошибки, которые до сих пор не удалось исправить. «Прошлое никогда бы не установилось, если бы оно не сосуществовало с настоящим, чьим прошлым оно является» (Делёз, 2000 с. 136). Вместе с тем, историческое прошлое, в принципе, может быть откорректировано, исправлено или полностью забыто, изъято из памяти значительной части народа либо даже вытеснено в коллективное бессознательное, например, при условии наличия соответствующей политической воли. Правда, полностью стереть историческую память невозможно, поскольку в ней и посредством неё сохраняются правовые и моральные нормы человеческого существования, без которых жизнь каждого человека превратилась бы непосредственно в хаос. Кроме этого, историческая память является хранительницей огромных достижений человеческой культуры и цивилизации, изобретений и открытий, связанных с развитием научно-технического прогресса. В настоящее время основная работа по передаче исторического знания ложится на высшее образование, в рамках которого сохраняются традиции, одновременно рассматриваемые с учетом достижений современной науки. В контексте развития цифровых технологий университеты оказываются способными существенно расширить своё интеллектуальное присутствие как в пространстве регионального социума, так и в глобальном масштабе.
@®
MtribubM 4.0 IHl»rH»tion»l ICC ГГ 4.0)
Вместе с тем историческая память целой нации находится в сфере интересов государственной политики, не в последнюю очередь направленной на обеспечение безопасности страны. Гуманизация окружающей социальной среды позволяет реализовать «третью миссию университета», которая связана с формированием исторической памяти, способствующей развитию гражданской идентичности и гармонизации межэтнических отношений внутри страны.
-
II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Научный интерес к исторической памяти народа возник в эпоху перехода от традиционных, феодальных обществ к современным, национальным государствам. В настоящее время «историческая память» занимает важное место в государственной политике, направленной на формирование коллективной идентичности граждан страны. В этой связи французский социолог М. Хальбвакс, выступивший во многом идейным наследником Э. Дюркгейма и А. Бергсона и предложивший последовательную теорию “коллективной памяти”, справедливо утверждал, что «мы можем вспоминать, лишь находя для интересующих нас событий прошлого место в рамках коллективной памяти» (Хальбвакс, 2007 с. 325). Таким образом, оказывается, что без исторической памяти невозможно сформировать относительно гомогенную (несмотря на региональные различия) гражданскую идентичность жителей страны.
Государственная политика в отношении исторической памяти сталкивается с рядом проблем, находящихся в плоскости формирования общероссийской гражданской идентичности. Так, например, между народами России продолжают сохраняться довольно значительные культурные различия, которые в последнее время даже несколько усилились. По мнению А.И. Миллера по-прежнему актуальной является «проблема единства исторического мифа на территории России, поскольку во многих национальных республиках политика памяти находится в кричащем противоречии с задачей формирования общероссийской идентичности» (Миллер, 2013, с.125-126). При этом наплыв мигрантов из стран средней Азии, стремящихся получить российское гражданство, также существенно усложняет общую картину формирования коллективной памяти.
Важно учитывать, что память, в особенности коллективная память, находится в сильной зависимости от речи, то есть она, как правило, включена в тот или иной дискурс о прошлом. Наиболее существенные для коллективной памяти события должны воспроизводиться в настоящем посредством соответствующих механизмов воспоминаний – праздничных мероприятий, памятников, кинопродукции. Э.В. Ильенков отмечал, что память «всегда опирается на слово, на речь. Без речи нет вообще того, что мы называем человеческой памятью. И только те черты события, факты, о которых я постоянно упоминаю при рассказывании о нем, те черты, которые я воспроизвожу словесно, в конце концов и сохраняются в сознании. Все остальное постепенно стирается в памяти, и, по-видимому, неслучайно: если я о чем-то не считаю нужным упоминать, значит, я считаю это “несущественным”, не заслуживающим упоминания…» (Ильенков, 2019 с.86-87). Но главным остается речь о минувших исторических событиях, дискуссия вокруг кризисных и поворотных моментов отечественной истории, повторение ключевых дат, определивших дальнейших ход истории в процессе образования.
Поэтому государственная политика, направленная на формирование единой концепции отечественной истории, способной конструировать коллективную идентичность, востребованную в масштабах целой нации, является наиболее приоритетной. В условиях информационного общества, когда существует доселе невиданный доступ к разнообразным историческим данным, образовательным институтам, во многом реализуя правительственный заказ, оказывается все сложнее формировать единый взгляд на историю, соответствующий основной линии государственной политики в данном вопросе. Так, ещё несколько веков назад роль историка, тем более «национального» историка в формировании политики памяти, существенно отличалась от современной (информационной) ситуации. О. Розеншток-Хюсси справедливо писал, что например, в XIX веке «историки фактически были политическими вождями своего общества.
Люди верили, что они знали прошлое человечества и собственной страны. Знание прошлого и руководство настоящим и будущим, похоже, ещё казались совместимыми. Историки представляли тогда и память, и совесть своих стран» (Розеншток-Хюсси, 2002. с.559). При этом речь шла именно о создании своих собственных национальных историй, то есть историй государств, а не аристократических семей, которые могли претендовать на власть сразу в нескольких странах. Например, вплоть до начала XIX века на большей части территории центральной Европы формально ещё продолжала существовать Священная Римская империя германской нации, политическое объединение, обладавшее собственной историей (и соответственно коллективной памятью), которая уже перестала удовлетворять запросы населявших её народов (включая и самих немцев, и других «германцев»).
Нельзя также игнорировать тот факт, что на протяжении многих веков историческая память тех же европейских народов в значительной степени совпадала с историей католической Церкви, и только эпоха Реформации открыла путь для создания собственных национальных историй (интересно, что данный процесс протекал параллельно с созданием национальных церквей). Растянувшийся на несколько столетий кризис династических государств привёл к необходимости создания исторических нарративов, опирающихся на понятие «нация» в его современном постреволюционном смысле. Так, по мнению Б. Андерсона, каждая современная нация «воображается суверенной, поскольку данное понятие родилось в эпоху, когда Просвещение и Революция разрушили легитимность установленного Богом иерархического династического государства» (Андерсон, 2016. С.49). При этом в новых исторических нарративах речь стала идти именно о нациях суверенных, источником власти в которых является народ.
Вместе с тем, в период становления глобального информационного общества уже в XX веке (после окончания Второй Мировой войны), а тем более в начале XXI века, официальные историографии государств оказались в определенном кризисе, поскольку также возникло множественно подходов к рассмотрению исторического прошлого, не привязанных к «жестким» национальным конструктам. «Те золотые времена ушли в прошлое. Историк уже не прирождённый лидер, и ему уже не доверяют в той мере, как прежде. Затруднения новейшей истории возникают из-за того, что она уже не находится в относительной гармонии с памятью и традициями какой-то определённой группы. Пренебрежение той двойной ролью, которую играли историки в течение девятнадцатого столетия, объясняет основные затруднения истории в послевоенном мире» (Розеншток-Хюсси, 2002. с.560). Кроме этого, в исторической науке произошел всплеск интереса к интернациональным объединениям, глобальным политико-экономическим и культурным структурам (корпорациям), традиционным имперским образованиям, истории отдельных меньшинств (этнических, конфессиональных), коллективная память которых могла существенно отличаться от коллективной памяти условного большинства населения, культивируемой и насаждаемой государством. Несомненно, что коллективная память позволяет человеку адекватно воспринимать окружающую его политическую реальность, причём в конкретновсеобщих терминах с опорой на факты, наиболее значимые для истории его страны. Следовательно, зафиксированные коллективной памятью различные «образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях» (Репина, 2003. с.10). При этом в коллективную память могут довольно легко проникать и сохраняться в ней исторические мифы, которые не обязательно играют негативную роль, а могут наоборот выступать в форме патриотических мифов. Формируя историческую память населения страны, пытаясь собственно гомогенизировать коллективную память, образовательные институты сталкиваются с трудностями междисциплинарного характера. «Нужно понимать и учитывать намерения людей, которые делают историю. Ядром исторической памяти являются наши ценности, точнее, наши оценки прошлого. Одни – историки – описывают прошлое, как деяния великих людей, героев. Другие – юристы – воспринимают его как “темное”, “бесправное”, “тоталитарное” время. Отсюда следует “трансдисциплинарность” истории как науки, которая не довольствуется эмпирическим методами, а использует техники интерпретации гуманитарных наук, и достижения географии, этнографии, биологии, а также психологии и когнитологии» (Марков, 2019. с. 23).Так, например, ясно, что в системе высшего образования историческая память формируется далеко не только на занятиях по отечественной истории. Порой занятия философией, социологией, этнографией играют основополагающую роль в формировании исторической памяти выпускников высших учебных заведений.
Таким образом, «настоящее» людей в значительной степени находится в зависимости от «прошлого», которое может воображаться и переживаться на основе соответствующих исторических нарративов, прочитанных, в том числе художественных произведений: книг, фильмов, сведений, подчеркнутых в процессе обучения из учебников. Речь идёт именно о коллективном прошлом, например, прошлом целого народа или нации, которые обладают длительной, в том числе государственной историей, далеко выходящей за границы отдельной человеческой жизни.
-
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Историческая память не в последнюю очередь продолжает находиться в фокусе современных социально-гуманитарных исследований, поскольку существует прямая заинтересованность политического руководства страны в формировании на её основе государственной идентичности в среде значительной части граждан России, в первую очередь посредством институтов образования. Вместе с тем, государственная «политика памяти» в решении поставленной задачи - формировании единого, цельного образа исторического прошлого сталкивается сразу с рядом концептуальных противоречий. Во-первых, в отличие от других республик бывшего СССР современная Россия во многом является его наследником, а, во-вторых, одновременно апроприирует историческое прошлое Российской империи, что приводит к проблемам, связанным с осмыслением как предпосылок, так и последствий сразу трех революций, произошедших в нашей стране в начале XX века.
Основное противоречие заключается в том, что с одной стороны государственные власти стремятся активно эксплуатировать советское наследие, особенно в пункте очевидной победы народов СССР в Великой Отечественной войне, но с другой стороны замалчивают или дают официальнонегативные оценки череде революционных событий прошлого, произошедших в начале XX века, притом, что ряд доминирующих в настоящее время в России институтов изначально сами носили революционный характер, как впрочем, и система социальных лифтов, сложившаяся именно после октябрьской революции. Таким образом, историческая память представляет собой разновидность коллективной памяти, которая отражает историческое сознание определенной социальной группы, класса или нации, рассмотренное в его ретроспективе. Осмысление исторического наследия страны, обращение к её прошлому способно сформировать в общественном сознании его цельный образ, необходимый для более глубоко понимания преемственности связей между поколениями. При этом не исключено, что в результате негативного воздействия историческая память может искажаться или вовсе подвергаться осознанному уничтожению или забвению. Поэтому историческая память народа нуждается не только в формировании и сохранении, но и собственно в охране со стороны институтов культуры и государственных органов власти. Вместе с тем, оказывается, что развитая («тренированная») историческая память, наличие которой может быть обнаружено в сознании отдельного индивида, является результатом процесса его успешного образования.
-
IV. БЛАГОДАРНОСТИ
Статья выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2582.2020.6) на тему «Государственная политика в сфере высшего образования и развитие инновационного потенциала молодежи: экономические и неэкономические детерминанты и механизмы в условиях регионализации социального пространства и становления индустрии 4.0» и в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (МД-1493.2020.6) на тему «Ресурс исторической памяти в системе институциональных параметров социально-инвестиционного развития и обеспечения культурной безопасности региона».
Список литературы Историческая память как инструмент государственной политики в сфере высшего образования: национальный контекст и региональные аспекты
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково Поле, 2016. 416 с.
- Арендт Х. Между прошлым и будущим. М.: Издательство института Гайдара, 2014. 416 с.
- Бергсон А. Материя и память. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 1. М.: Московский клуб, 1992. 336 с.
- Делез Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М.: PerSe, 2000. -349, [2] с.
- Ильенков Э. В. Абстрактное и конкретное: собр. соч. Т.1 / Э.В. Ильенков. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2019. 464 с.
- Марков Б.В. Факты и ценности в исторической памяти // Дневник Алтайской школы политических исследований. 2019. № 35. С. 22-26.
- Миллер А.И. Роль экспертных сообществ в политике памяти в России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2013. №4(71). С.114-126.
- Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). М.: ГУ ВШЭ, 2003. 44 с.
- Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. М., 2002. 695 с.
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое изд-во, 2007. 346 с.
- Ashmarov I.A., Ershov B.A., Bulavin R.V., Shkarubo S.N., Danilchenko S.L. The material and financial situation of the Russian Orthodox Church in the XIX - early XX centuries Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. Т. 138. С. 149-158.
- Ашмаров И.А., Ершов Б.А. Церковь как социальный и экономический институт общества в XIX - начале XX века. В сборнике: Православие и общество: грани взаимодействия. Материалы II Международной научно-практической конференции. Отв. ред. Е.В. Дроботушенко. 2018. С. 33-37.