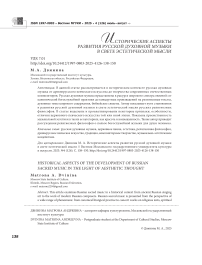Исторические аспекты развития русской духовной музыки в свете эстетической мысли
Автор: Двинина М.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика
Статья в выпуске: 4 (126), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается в историческом контексте русская духовная музыка от древнерусского певческого искусства до творчества современных отечественных композиторов. Русская духовная музыка представлена в ракурсе широкого спектра явлений: от канонической богослужебной практики до концертных произведений на религиозные тексты, духовные темы широкого содержания, библейские сюжеты. Автор показывает пути становления и развития русской духовной музыки в свете эстетической мысли русских религиозных философов. В статье выделены и проанализированы некоторые признаки, особенности, отличия церковного певческого искусства той или иной эпохи. Показана преемственность музыкальной эстетики в таких ее категориях, как красота и возвышенность. Также автор приводит рассуждения религиозных философов о пользе богослужебной музыки для души человека.
Русская духовная музыка, церковное пение, эстетика, религиозная философия, древнерусское певческое искусство, традиция, композиторское творчество, музыкально-эстетическое воздействие
Короткий адрес: https://sciup.org/144163537
IDR: 144163537 | УДК: 7.01 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-4126-138-150
Текст научной статьи Исторические аспекты развития русской духовной музыки в свете эстетической мысли
Русская духовная музыка, возникшая с начала образования Православной Церкви на Руси как широкий спектр явлений, существует, изменяется, принимает различные формы и в наше время. В данной статье нам хотелось осветить некоторые аспекты ее развития с момента появления и до настоящего времени в контексте эстетической мысли религиозных философов. Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом к изучению духовной музыки после событий 1990-х годов, которые стали началом нового этапа в жизни русского человека и Русской Православной Церкви, когда церковное искусство встало на путь возрождения и развития.
Хотелось бы уточнить, что в древнерусской традиции церковное пение, а также внехрамовое исполнение песнопений, духовных стихов не называлось музыкой, а только пением. Термин «музыка» употреблялся для именования звучания инструментов. Только в последней трети XVII века понятие музыки («мусикии») стало объединять и церковное пение, и игру на музыкальных инструментах, благодаря трудам «Мусикия» диак. Иоанни-кия Коренева и «Мусикийская грамматика» Н. П. Дилецкого. И. А. Гарднер в своей книге «Богослужебное пение Русской Православной Церкви» разделяет богослужебное пение на две эпохи. Соглашаясь с его типологией, можно выделить их особенности:
-
1. Первая – это эпоха унисонного одноголосия (представленного в знаменном, путевом, столбовом и других распевах), а также двухголосного пения
-
2. Вторая эпоха связана с западной традицией многоголосного хорового пения, воплотившей ключевые достижения концертного исполнительства, включая соревновательный элемент между хором и солистами-ансамблистами.
по византийскому образцу (с исоном) и русского троестрочия (так называемого «строчного трехголосия»);
Первая эпоха отмечена господством монодийного, унисонного пения, унаследовавшего традиции византийской певческой культуры. В это время пение не затрагивают западные светские веяния. Древнее монодий-ное пение, по мысли прот. Павла Флоренского, принадлежит к сокровищнице церковного искусства. Дьякон Сергий Трубачев в своей работе «Музыка богослужения в восприятии священника Павла Флоренского» приводит слова философа об унисонном пении как о проводнике трансцендентного, оно «удивительно как пробуждает касание Вечности. А когда есть богатство звуков, голосов, облачений и т. д. и т. д. – наступает земное, и Вечность уходит из души куда-то, к нищим духом и к бедным земными богатствами» [18, с. 343].
-
С. С. Аверинцев изучает византийскую традицию, в которой литургический текст раскрывает понимание литургии как небесного служения на земле. Согласно «Повести временных лет» [15, с. 73–74] послы князя Владимира, вернувшись из Константинополя, рассказали о неземной красоте византийского богослужения. Священное действо боже-
- ственной литургии было столь возвышенно, что послы ощутили себя в небесных чертогах. Свой опыт ощущения пребывания Бога на земле они выразили в словах: «…Токмо то вѣмы, яко онъдѣ Богъ съ человѣки пре-бываетъ…». Эти слова созвучны молитве царя Соломона: «..Поистине, Богу ли жить с человеками на земле?» (3 Цар. 8:27). Роль эстетического воздействия византийского богослужения как на христианина, так и на человека, не знающего христианской религии, очень велика.
Наш современник, профессор МГУ, бессменный руководитель секции «Музыка православного мира» ежегодных Рождественских чтений, замечательный исследователь древнерусского песнетворчества Татьяна Феодосьевна Владышевская в своей работе «Музыкальная культура Древней Руси» пишет о каноничности русского песнотворче-ства: «Основой древнерусского музыкального канона послужили канон византийской музыкальной культуры и его эстетика, определившие главные свойства древнерусского певческого искусства» [3, с. 47].. Автор приводит несколько трактовок греческого понятия «канон». Эстетическое осмысление музыкального искусства древности находит яркое выражение в идеях византийского философа IV века: «Философия, проявляющая себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа, <…> безыскусственный напев сплетается с божественными словами ради того, чтобы само звучание и движение голоса изъясняло скрытый смысл, стоящий за словами» [22, с. 107]. Красота, осмысленность, возвышенность пения, призванного воспитывать и облагораживать душу человека, которое уподобляется ангельскому, – все эти эстетические категории отражены в византийском музыкальном искусстве и освещены философской мыслью.
Древнерусское певческое искусство унаследовало эти эстетические качества, а также правила текстовой и музыкальной организации, пришедшие из Византии. В основу певческого творчества легли монодийные распе- вы (прежде всего – знаменный). Мы можем выделить некоторые признаки певческого византийского канона: пение мужское, мо-нодийное, без сопровождения, осмогласное. (Осмогласие – музыкально-теоретическая система, описывающая лады – «гласы» – в церковной музыке православной традиции). Это время характеризуется наличием памятников богослужебного пения исключительно с без-линейной нотацией.
Продолжительность первой эпохи богослужебного пения на Руси И. А. Гарднер рассматривает от «начала организованной христианской Церкви на Руси» [4, с. 21], то есть с того времени, как в XI веке при Ярославе Мудром собором иерархов был поставлен русский епископ Иларион, до середины XVII века, когда взор песнотворцев обратился к западному искусству. На протяжении Средневековья русская музыкальная культура была изолирована, а в XVII веке путь развития отечественной культуры встретился с западноевропейским.
Русская религиозно-философская мысль начинает оформляться уже в XII столетии, что находит отражение в трудах таких авторов, как новгородский дьякон Кирик (позднее иеромонах Кирилл), митрополит Климент Смолятич, епископ Кирилл Туровский, а также в более поздних работах преподобного Нила Сорского.
После падения Константинополя в 1453 году сложилась концепция «Москва – третий Рим». Началось активное строительство храмов, церковное пение очень почиталось, культивировалось. Вопросами церковного пения занимался даже Стоглавый собор в 1551 году, при царе Иоанне Грозном. В середине XV века образуется хор государевых певчих дьяков, а в XVI веке – хор патриарших певчих дьяков.
В это время великий подвижник Русской Церкви, богослов XV–XVI века, Нил Сор-ский говорит в своих трудах о церковном пении в свете его благоприятного воздействия на душу человека. Богослужебное пение способствует человеку в поиске молитвенного со- стояния для покаяния, изменения греховных страстей в себе на пути к раскрытию прекрасного и возвышенного, где верующий человек приобретает бесценный «дар слез» [13, с. 168]. Нил Сорский исследует феномен внутренней молитвы, рассматривая ее как важнейший элемент духовного подвижничества: «Облегчение в борьбе бывает и помыслов успокоение, причем ум, словно обильной пищей, насыщается молитвой и веселится, а из сердца источается некая сладость невыразимая, и на все тело распространяется, и во всех членах болезнь обращает в сладость <...>. В радости бывает тогда человек…» [13, с. 170]. Эстетика церковнопевческого искусства выступает зеркалом человеческой сущности: в ней раскрывается не только внешнее выражение, но и сокровенные пласты русской православной души. Через искусство, интонации и даже молчание человек воплощает свои ценности, переживания и поиск высших смыслов.
Одним из высших образцов молитвенного делания на рубеже XV–XVI веков становится русское диссонантное многоголосие – троестрочие и демество, которое активно развивалось в XVII веке и существовало вплоть до XVIII века. Троестрочие (состоящее из трех голосов – Верх, Путь, Низ) имело, подобно знаменному распеву, аскетическую эстетическую направленность и огромный интеллектуальный потенциал гласовых и вне-гласовых песнопений. Демество (состоящее из четырех голосов – Верх, Демество, Путь, Низ) имело незначительный репертуар, ограниченный внегласовыми неизменяемыми песнопениями праздничных служб Всенощного бдения и Литургии, составивших книгу «Демественник». Эстетика демественных песнопений склонна к приукрашению напевов за счет изысканной мелизматики и большей протяженности.
Отмечал благотворное воздействие музыки на душу человека и философ Г. С. Сковорода: «Музыка – великое врачевство в скорби, утешение же в печали и забава в счастии» [17, с. 113]. Российский философ Михаил Семенович Уваров сравнивает музыку с исповедью – одним из семи таинств Православной Церкви: «Музыка, как поэзия души, дает возможность высказать самую затаенную, искреннюю мысль в ауре внутреннего конфликта и – одновременно – духовной гармонии» [19, с. 99].
Фигура Григория Сковороды предстает перед нами как воплощение самой возможности русской философии. В его учении, о котором прот. Зеньковский говорит как о первом подлинно философском опыте на Руси, осуществляется парадоксальный синтез: античная онтология встречается с библейской откровенностью, а народная мудрость возводится в ранг метафизики. Важным аспектом философии Г. Сковороды является диалектика Двух натур – видимой твари и невидимого Бога, пребывающего в отношении вездеприсутствия к миру, как имманентная основа бытия. Другой важный аспект – тра-дологическая антропология, постулирующая единство макрокосмоса (Вселенной), микрокосмоса (человека) и сакрального текста (Библии). Утверждение об «истинном человеке» как о подлинной сущности человеческого (и одновременно – божественного) бытия раскрывает христологический вектор его мысли. Музыка в этой стройной системе – не просто искусство, но способ явления истины, где гармония звуков становится символом мировой гармонии.
Пифагорейская интуиция о музыке сфер, звучащем ладе мироздания, также находит свое развитие в философии Сковороды. «Симфония» перестает быть просто термином, становясь символом божественного единства, пронизывающего все уровни бытия. Для философа небесная музыка – не метафора, но сама суть Божественного, звучащая в бесконечности. Человеческое же музицирование предстает как попытка прикоснуться к этой вечной гармонии, воспроизвести в тварном мире отблеск нетварного совершенства.
В XVI–XVII веках под влиянием процессов секуляризации духовного искусства происходит смена эстетических доминант с аскезы в сторону красочности, пышно-
L
сти и торжественности стиля. В частности, возник и некоторое время существовал феномен одновременного исполнения разных частей службы, известный как многогласие. В то же время возникают и паралитургиче-ские жанры – театрализованные религиозные действия, которые процветают на протяжении XVI и XVII веков (например, «Пещное действо» на основе ветхозаветного сюжета о трех отроках, которое совершалось во время службы в храме, или действие «Шествие на осляти» – внехрамовое).
Вторая эпоха в истории церковного пения ознаменовалась доминированием западноевропейской традиции многоголосного хорового исполнения. Как отмечают исследователи, ее временные рамки простираются с середины XVII века до наших дней. Одной из ключевых характеристик этого периода стал процесс обмирщения церковной музыки и ее сближения с музыкой светской.
Середину XVII века можно назвать переломным моментом в русской культуре, связанным с двумя событиями, совпавшими по времени: присоединением Украины к России в 1654 году и реформами патриарха Никона, пребывавшего на патриаршем престоле с 1652 года. В это время из Украины в Россию было привезено партесное пение, вызывавшее как восторженный отклик, так и сильное неприятие. Официально, от имени царя, лучших киевских певцов и руководителей партесного пения в Москву стали приглашать с 1652 года (под влиянием благоволения к нему патриарха Никона). Распространяются киевский, болгарский, греческий и другие напевы, записанные киевской квадратной нотацией. Важным объединяющим фактором для данного исторического периода, наряду с распространением многоголосного пения, явилась трансформация системы нотации. Безлинейные способы записи были практически полностью замещены линейными. Также в XVII веке параллельно с партесным пением активно развивается многоголосие на основе отечественных традиций – троестрочие и демество.
В своем фундаментальном труде выдающийся русский философ и историк церкви прот. Георгий Флоровский осуществляет глубокий анализ духовно-культурных трансформаций XVII столетия, акцентируя внимание на проникновении западноевропейских влияний в сакральную сферу православной традиции. Особое место в его исследовании занимает эстетическая парадигма церковного пения, где происходит смена художественного канона: западные образцы с выстроенной системой гармонических отношений начинают вытеснять древние византийские распевы с их иконографическим звукосозерцанием.
Как свидетельствует прот. Георгий Фло-ровский, в Андреевском монастыре у Ртищева и в Новом Иерусалиме у патриарха Никона мы наблюдаем приглашение « „польских“ певчих, которые поют „согласием органным“» [20, с. 92], то есть многоголосной партесной манерой. Более того, патриарх Никон целенаправленно вводит в обиход своего хора музыкальные композиции знаменитого мастера капеллы роратистов из Кракова Мартина Мильчевского, тем самым утверждая новую аксиологику в сакральном пространстве.
Этот исторический пример репрезентует важнейший культурно-религиозный парадокс эпохи: стремление к обновлению православной традиции через заимствование западных форм, что впоследствии приведет к глубокому расколу в русской духовной идентичности. Прот. Георгий Флоровский рассмаривает данный процесс не просто как музыкальную реформу, но как симптом более масштабного кризиса традиционного церковного сознания перед вызовами модернизации.
Кроме того, в это время в Москве распространяется светская музыка. Царь Алексей Михайлович открыл первый придворный театр, который просуществовал с 1672 по 1676 год. При дворе появились европейские инструменты – орган, клавикорды, флейты, виолончели. Изменилось само понятие музыки («мусикии»). Если до этого времени инструментальная музыка противопоставлялась возвышенному ангелоподобному цер-
ковному пению, то теперь И. Коренев в своем трактате «Мусикия» объединяет и церковное пение, и игру на музыкальных инструментах в одно понятие «мусикии», но относит их к разным родам музыкального искусства.
Философ прот. Василий Зеньковский, анализируя динамику культурного сознания, также утверждает, что «XVIII в России есть век „секуляризации“» [7, с. 57]. В эстетической сфере формируется автономная светская культура с новой системой художественных ценностей (классическая форма, зарождение светских жанров), отрывающаяся от сакральной традиции; в философском измерении происходит переосмысление религиозного сознания, что выражается в кризисе средневековой символической картины мира и поисках синтеза между верой и рациональностью. Вторая половина XVIII века – начало XIX знаменуется периодом итальянского влияния в России, периодом классицизма. Точнее – от 1741 года (начало царствования Елизаветы Петровны) до 1837 года, когда главой Придворной певческой капеллы становиться А. Ф. Львов. Как отмечает исследователь И. Е. Лозовая, в духовных концертах этого периода заметно усилилось влияние западноевропейской оперной традиции и инструментальной музыки. Это выразилось в ориентации на функциональную гармонию, в стремлении к структурной целостности, симметрии формы, а также в расширении диапазона композиционных приемов. Яркие композиторы – представители данного периода: М. С. Березовский, Д. С. Бортнянский, С. А. Дегтярев, А. Л. Ведель. Сочинения композиторов периода классицизма популярны и в настоящее время, они исполняются и за богослужением, и на концертах. Самыми крупными фигурами классицизма были Дмитрий Бортнянский и Максим Березовский. Музыкальное наследие Д. С. Бортнянского очень богато. Он является автором более 100 духовных концертов, нескольких литургий и других песнопений. Композитор раскрыл свой талант в работе с хором и создании хоровой музыки. П. Львов называл пение хора Д. С. Бортнянского го- ворящим, пребывающим единодушно в молитве. Исследователь В. Золотарев упоминает об особенности звучания хора капеллы – ор-ганности – «чудесном эффекте», поразившим Г. Берлиоза во время его пребывания в России [8, с. 37–38].
Как отмечает протоиерей В. М. Металлов в «Очерках истории православного церковного пения в России», Д. С. Бортнянский, безусловно, был великим музыкантом, однако «он дорог для отечественной церкви как церковный композитор в других своих произведениях, не концертных, и, более всего, в переплетениях древнейших церковных мелодий» [11, с. 125]. Обширная деятельность композитора привела к расцвету хорового искусства в России. Прот. Димитрий Разумовский указывал на то, что звучание сочинений Д. С. Бортнянского располагает к молитве, благотворно влияет на душу [16, с. 233]. В конце XVIII – начале XIX века в русской музыкальной культуре происходит важный стилевой синтез: в рамках классической эстетики – с ее строгими формами и рациональной гармонией – постепенно проявляются элементы сентиментализма, который имеет следующие черты: эмоциональность, молит-венность, выражающаяся в проявлении печали (преобладании минора, использовании хроматизмов). Тенденцию сентиментализма в некоторой степени отражают поздние духовные концерты Д. С. Бортнянского («Скажи ми, Господи»), а также концерты А. Л. Веделя («Доколе, Господи, забудеши мя до конца», «На реках Вавилонских»). Эти печальные минорные интонации в сочинениях и сегодня обладают глубоким духовным воздействием, пробуждая в молящемся сердце покаянное чувство через свою возвышенную скорбную красоту.
В духе новых романтических тенденций выдающийся советский философ А. Ф. Лосев в работе «Основной вопрос философии музыки» говорит о сильном воздействии музыки на человека и о возможности через музыку соприкоснуться с бесконечным: «Слушая музыку, люди начинают то вспоминать какие-то давнишние и давно исчезнувшие предметы, то вдруг надеяться на какую-то всеобщую красоту, которая должна обнять собою весь мир, да вот уже и обнимает. И люди то блаженно улыбаются, то плачут. <…> А все это только потому, что человек, никогда не мысливший о бесконечности и никогда не понимавший бесконечное в свете конечного, а конечное в свете бесконечного, при слушании музыки вдруг начинает испытывать единство и полную нераздельность того и другого, начинает об этом задумываться, начинает это чувствовать» [9, с. 329].
Первая половина XIX века отмечена проникновением в церковную музыку романтизма с его эмоциональностью и переходом от строгой молитвенной созерцательности к личностному переживанию сакрального, контрастностью. Черты романсной стилистики мы наблюдаем в творчестве А. А. Алябьева, А. Н. Верстовского, А. Е. Варламова. При создании духовных произведений композиторы неизбежно привносили элементы светской вокальной традиции, что проявлялось в частом использовании романсовых интонационных оборотов.
Как идея формирования национальносамобытной школы романтизм особенно ярко проявился в русской церковной музыке этого периода. Начиная с М. И. Глинки, многие композиторы – Н. М. Потулов, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. И. Танеев, А. К. Лядов – уделяют внимание национальным напевам, ищут адекватные способы их гармонизации (в качестве оппозиции реформе Львова, гармонизации которого, за исключением отсутствия метризации, не соответствовали русской традиции).
М. И. Глинка первым сумел возвратиться к истокам отечественной традиции. В своей статье «Опера Жизнь за Царя», посвященной анализу оперного творения М. И. Глинки, философ А. С. Хомяков осуществляет философско-эстетическую рефлексию, возвышая талант композитора, чье творчество стало воплощением соборного духа русской культуры. В данной статье конкретное музыкальное произведение становится предметом фундаментального философского осмысления, раскрывающего глубинные закономерности национального художественного сознания. Согласно свидетельству В. Ф. Одоевского, последние годы жизни М. И. Глинки были посвящены изучению и созданию церковной музыки. Композитор поехал в Берлин изучать теорию церковных тонов и строгий стиль письма западноевропейского Средневековья и Ренессанса у теоретика З. В. Дена, так как был уверен, что европейские средневековые лады родственны знаменным. Мысли М. И. Глинки об отечественной музыкальной традиции заинтересовали таких известных музыкальных критиков, как князь В. Ф. Одоевский и В. В. Стасов. Князь Владимир Одоевский, являвшийся ключевой фигурой в изучении русской музыкальной медиевистики, провел масштабное исследование древних нотных рукописей из монастырских и частных собраний, включая труды Филарета Черниговского, Тихона Ма-карьевского, Александра Мезенца. В своих работах В. Ф. Одоевский особо подчеркивал принципиальные различия между древнерусской гласовой системой, основанной на сакральном отношении к каждому гласу и символу в крюковой нотации, и светской западноевропейской традицией, не имеющей такового. Значительное внимание он уделял вопросам практики церковного пения, направляя усилия музыкальной общественности не на столичные храмы, а на приходские церкви. В своих многочисленных статьях В. Ф. Одоевский настаивал на необходимости подготовки специалистов, способных восстановить древние традиции богослужебного пения. Как отмечает Е. Г. Мещерина в диссертации «Духовно-эстетические основания музыкального искусства Средневековой Руси», Одоевский выступал за «возвращение богослужебного пения к древнему строгому стилю с использованием средств, не искажающих мелодического характера древних распевов» [12, с. 255].
XIX век ознаменовал собой рождение русской философии в ее подлинном смысле – об этом свидетельствуют как прот. В. В. Зень-ковский, так и прот. Г. В. Флоровский. Если первый видит в этом периоде начало философии как культурного феномена, то второй говорит о настоящем пробуждении русской мысли. Это пробуждение происходило не в одиночных размышлениях, а в живом общении философских кружков, самым ярким их которых стало «Общество людому-дров» с его блистательным составом: от князя В. Ф. Одоевского до будущих славянофилов И. В Киреевского и А. И. Кошева.
Философское наследие В. Ф. Одоевского в области музыкальной эстетики отличается исключительной глубиной и системностью. Будучи родоначальником научного изучения древнерусского музыкального искусства, мыслитель изложил свои концепции в ряде фундаментальных трудов. Особого внимания заслуживает его работа «Гномы XIX столетия», где музыка интерпретируется как квинтэссенция духовного в искусстве: «…Му-зыка составляет истинную духовную форму искусства точно так же, как звук показывает качества материи» [14, с. 175]. В этой перспективе музыкальное восприятие предстает как особый вод метафизического познания, позволяющий приобщиться к божественной гармонии универсума.
С 1836 года, когда А. Ф. Львов становится директором Придворной певческой капеллы, до начала XX века проходит период немецкого влияния, господство Придворно-певческой капеллы. Этот период можно назвать «немецким», так как главный его представитель – А. Ф. П. Львов – делал гармонизации церковных напевов по школьным немецким учебникам гармонии. В церковно-музыкальной практике того периода утвердился немецкий хорал как наиболее соответствующий представлениям о музыкальной эстетике того времени, воплощая в себе строгую архитектонику гармонического строя, возвышенную простоту мелодического рисунка, молитвенную сосредоточенность звучания.
Одной из характерных черт этой эпохи является становление национальных музыкальных школ, в том числе русской. Толчком послужили результаты Крымской войны (1853–1856), взгляд русского человека на Европу изменился. Появилась тенденция возвращения к истокам. Стала зарождаться русская медиевистика (трудами В. Ф. Одоевского и прот. Д. В. Разумовского), начала формироваться «Могучая кучка» (творческое содружество русских композиторов Санкт-Петербурга конца 50-х – начала 60-х годов XIX века). Музыкальный критик В. В. Стасов, который был тесно связан с «Могучей кучкой», подчеркивал важность тематики их творчества, непосредственно связанной с образами и картинами из народной жизни, народного эпоса, сказки, с древними языческими верованиями, обрядами, с историческим прошлым России – этим В. Стасов выражал их общие идейно-эстетические позиции. В реализации принципов композиторов «кучкистов», которыми были народность и национальность, в популяризации творчества композиторов «Могучей кучки», в том числе их духовной музыки, В. Стасов видел свою задачу.
Исследованиями в лоне русской певческой музыки в XIX веке занимались известный историк и богослов митр. Евгений (Болховитинов) («Исторические рассуждения», 1804), Н. Горчаков («Опыт вокальной или певческой музыки в России…», 1808), В. М. Ундольский («Замечания для истории церковного пения в России», 1846). Учреждение в 1866 году кафедры истории и теории русского церковного пения в Московской консерватории, возглавленной протоиереем Дмитрием Разумовским, положило начало систематическому исследованию древнерусской певческой традиции. Научные труды Д. В. Разумовского, С. В. Смоленского, протоиереев Ивана Вознесенского и Василия Металлова, а также А. В. Преображенского не только заложили фундамент музыковедческого изучения богослужебного пения, но и открыли пути к изучению философско- религиозных оснований церковно-певческого искусства, оказали существенное влияние на дальнейшее изучение эстетических особенностей русской церковной музыки.
Категории прекрасного и возвышенного как вечные парадигмы сакрального искусства, находят свое уникальное воплощение в духовной музыке различных эпох, приобретая каждый раз особые стилистические и семантические черты. Эта диалектика эстетических начал получает глубокое философское осмысление и в трудах мыслителей ХIХ–ХХ столетия. Святитель Игнатий (Брянчанинов), богослов и проповедник ХIХ века, в своем труде говорит об истинном творчестве и красоте, что должна быть пронизана благодатью. Как свидетельствует духовный опыт святителя, истинное творчество в духе рождается лишь из глубины подлинного духовного переживания. Красота – в каких бы формах она ни являлась, – по убеждению святого отца, должна быть пронизана божественной благодатью, получить это таинственное «помазание Духом». Иначе, утрачивая связь с источником всякой красоты, она становится обманчивой, несущей в себе семена распада разрушения [1, с. 287]. Только когда в творении ощущается дыхание Святого Духа, мы можем говорить о подлинной, непреходящей красоте. Митрополит Антоний Сурожский (Блум), признанный одним из наиболее влиятельных православных богословов XX века, в русле традиции, заложенной Павлом Флоренским, развивает учение о неразрывной связи эстетического и онтологического начал. В его богословской системе красота предстает не как абстрактная категория, но как живое свидетельство истины. Согласно воззрениям владыки Антония, подлинная Красота обладает особым эпифаническим качеством: она неизбежно отсылает человеческое сознание к Первоисточнику, выступая своего рода теофанией, явлением Бога в тварном мире. Эта концепция восходит к патристическому пониманию прекрасного как одного из имен Божиих и находит свое продолжение в современном богословии.
Следующий период с 1896 года (первые сочинения А. Д. Кастальского и П. Г. Чеснокова) по 1917 года (эта дата условна, так как некоторые композиторы Нового направления продолжали писать музыку и после революции) – период «Нового направления». К Новому направлению относились представители как Москвы, так и Петербурга. Особое значение Новой Московской школы – в возвращении к эстетике канонических древних распевов, особенно, знаменному, в поиске новых путей для их многоголосной обработки. Понадобилось более ста лет развития в России европейской стилистики, чтобы она доросла до тех интонационно-гармонических и фактурных возможностей, которые бы эстетически соответствовали древнему пению.
Другая особенность этого времени – концертное духовное творчество, связанное с большим подъемом хоровой (в том числе церковно-хоровой) культуры. В 1840-е годы Николай I издал закон, запрещающий исполнять на концертах русскую церковную музыку (можно было исполнять только европейскую духовную музыку). Русские духовные песнопения, помимо храма, можно было услышать лишь на публичных спевках (на спевках, на которые иногда допускались слушатели).
В этот период Московский Синодальный хор, который был создан на базе знаменитого хора Патриарших певчих дьяков, а также непосредственно соединенное с ним Синодальное училище, выходят из-под влияния Придворно-певческой капеллы Санкт-Петербурга. Один из самых ярких представителей этого периода, регент Синодального хора, выдающийся церковный композитор и дирижер – Александр Дмитриевич Кастальский. Как отмечают исследователи Е. Ю. Шевчук и И. Е. Лозовая, А. Д. Кастальский разработал принципиально новую систему гармонизации древнерусских распевов, которая, сохраняя характерные черты русской духовной традиции, воплотила собой эстетический идеал национального стиля. Церковная музыка – наибольшая часть творческого наследия
композитора. Н. А. Римский-Корсаков говорил так о Кастальском: «Пока жив Александр Дмитриевич, жива русская музыка: он владеет русским голосоведением и доведет свое уменье до высшего мастерства» [7, с. 581].
Новаторские стилистические решения А. Д. Кастальского и достижения хоровой исполнительской культуры его времени послужили важным импульсом для формирования обширного пласта произведений русской духовной музыки. Представителями нового направления стали композиторы П. Г. Чесноков, Н. М. Данилин (Синодальная школа); М. М. Ипполитов-Иванов, А. Т. Гречанинов, Н. Н. Черепнин (Петербургская школа). Высшим достижением Нового направления в церковном искусстве конца XIX века в русле московской школы стало «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова, написанное для двенадцатиголосного смешанного хора. Всенощная является лучшим сочинением не только в духовном творчестве композитора, но и в русле всего Нового направления, хотя формально С. В. Рахманинов не принадлежал к Новому направлению.
В религиозной философии ХIХ–ХХ веков древнерусская музыка возникает в свете эстетики храмового действа в работах Павла Флоренского, как сказано было ранее, также в работах Г. П. Федотова, который считал, что влияние религиозного искусства на русскую душу было исключительно велико. Религиозный философ С. И. Фудель писал о П. Флоренском: «Флоренский открыл какое-то окно, и на наше религиозное мышление повеяло воздухом горнего мира. <…> Овладев всем вооружением научной и философской мысли, он вдруг как-то так повернул всю эту великую машину, что, казалось, она стоит покорно и радостно перед открытой дверью истинного познания “природы вещей”. Этот “поворот” есть воцерковление нашей мысли, возвращение запуганной, сбитой с толку и обедневшей мысли к сокровищницам благодатного знания» [21, с. 128].
В советское время идеи исследования эстетики духовного искусства нашли отраже- ние в работах Д. С. Лихачева, В. М. Алпатова, Г. И. Вздорнова, а также в трудах М. В. Бражникова, Н. Д. Успенского, посвященных знаменному пению. Послереволюционный период подразумевает собой разделение русской традиции на две части. С одной стороны, это творчество композиторов, живших в СССР и до определенного времени продолжавших писать церковную музыку, таких как Н. С. Голованов, М. О. Штейнберг, А. В. Никольский, П. Г. Чесноков, прот. Г. Я. Извеков. С другой стороны, – творчество композиторов русского Зарубежья, таких как К. Н. Шведов и Н. Н. Кедров, которые продолжали писать церковную музыку для исполнения в храмах своими хоровыми коллективами. Однако об эстетическом, художественном развитии в их сочинениях говорить трудно. Этот период можно рассматривать как период спада.
В трудах мыслителей русской эмиграции эстетика предстает не как абстрактная дисциплина, а как живое осмысление связи искусства, религии и человеческого бытия. Каждый из этих авторов, сохраняя общие принципы, разработал уникальный подход к пониманию красоты и творчества.
В. Вейдле в работе «Умирание искусства» анализирует кризис современного ему искусства через призму христианского мировоззрения, видя причины упадка в утрате духовных оснований творчества. Н. Евреинов в «Откровении искусства» обращается к психологии художественного творчества, раскрывая его глубинные связи с религиозным опытом через призму психоанализа. Н. Лосский в трактате «Мир как осуществление красоты. Основы эстетики» развивает интуитивистско-персоналистскую концепцию прекрасного, утверждая его онтологическую значимость. В своей работе философ говорит о красоте как о полноте бытия: «Идеал красоты осуществлен там, где действительно осуществлена всеобъемлющая абсолютная ценность совершенной полноты бытия, именно этот идеал реализован в Боге и в Царстве Божием. Совершенная красота есть полнота бытия, содержащая в себе совокупность всех абсо-
L
лютных ценностей, воплощенная чувственно» [10, с. 34]. И. О. Ильин в «Основах художества» формулирует критерии подлинного искусства и закладывает методологические основы его анализа, подчеркивая необходимость целостного восприятия художественного творения. Объединяющей идеей этих мыслителей стало убеждение, что искусство – не автономная сфера, а отражение духовного состояния человека и культуры. Они настаивали на преодолении узконаучных подходов, выступая за синтез эстетики, онтологии и антропологии. При этом их объединяла вера в то, что подлинное искусство неотделимо от религиозного мировоззрения, а красота имеет трансцендентную природу.
Эстетические искания философов русского зарубежья стали важнейшей частью развития религиозно-философской мысли века, предложив альтернативу – как формализму, так и чисто секулярным интерпретациям искусства. Их наследие сохраняет актуальность, напоминая о том, что истинное творчество рождается на пересечении духовного поиска, философско-эстетической глубины и художественного вдохновения.
С начала 90-х годов XX века наблюдается возрождение духовной культуры в России. «Прекращение гонений на Православную Церковь, отмена связанных с этим идеологических запретов – эти события начала 1990-х годов ознаменовали начало нового этапа в жизни Русской Церкви» [5, с. 74], существенно повлияли на развитие всех видов церковного искусства. Были созданы новые песнопения для клиросной практики, произведения светского жанра на христианские темы.
В дальнейшем развитии музыкального творчества можно выделить две ветви, к первой относится творчество композиторов, пишущих музыку именно для исполнения в церкви, например, диак. Серия Трубачева, архим. Матфея (Мормыля), прот. Николая Ведерникова. Задача церковной музыки – дополнять и усиливать молитвенное стояние прихожан. Она не предполагает нарушения порядка канонического текста. Должна из- бегать внешних композиционных эффектов, нарочитых «красивостей», чрезмерной чувствительности. Другая ветвь – концертное духовное творчество, ее представители: Г. В. Свиридов, Н. Н. Сидельников, В. С. Дьяченко, Н. С. Лебедев.
Духовная музыка в концертном исполнении представляет собой самодостаточный жанр, который через специфику музыкального языка транслирует богословские и нравственные идеи сакральных текстов, активизируя эмоциональное сопереживание и эстетическое восприятие аудитории в условиях светского исполнительского пространства. Миссионерская роль этой музыки имеет большое значение.
В настоящее время в области духовной музыки продолжают творить современные композиторы. В. Довгань, А. Микита, А. Висков создают большое количество богослужебной и духовно-концертной музыки, для них это – часть жизни. М. Петухов, С. Сегаль – православные композиторы, написание духовных сочинений для них – проявление целостности мировоззрения. Представителями новой генерации композиторов духовного жанра, заявивших о себе в последние годы, можно назвать И. Вишневского, Д. Дианова. В эстетическом плане названные современные композиторы полагаются на идею того, что духовная музыка несет красоту и свет, радость и чистоту, надежду на духовное восхождение и преображение личности.
Для более глубокого понимания сущности духовной музыки показателен ответ Владимира Довганя на вопрос журналиста С. Ах-тырского (газета «Завтра»): «Не сужает ли ваши творческие возможности написание хоров на церковные тексты?». Композитор дает развернутый ответ на данный вопрос: «Я веду в Российской академии музыки им. Гнесиных факультатив для студентов-композиторов „Основы сочинения русской православной музыки“. Говорю студентам примерно так: любая настоящая композиторская деятельность невозможна без прославления Господа, но при сочинении храмовой музыки требо-
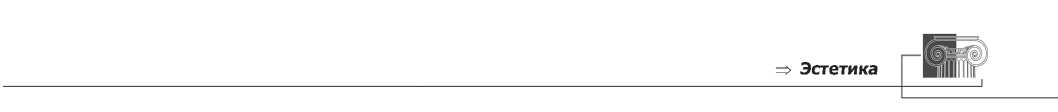
вания к композитору многократно возрастают. Необходимо соответствие канонам. <…> И скупое по фактуре, небольшое песнопение способно воздействовать мощнее длинных, замысловатых, богато аранжированных, но бедных искренностью и красотой оркестровых пьес» [2, с. 1]. В статье «Духовномузыкальное творчество В. Б. Довганя» мы подчеркнули особенное трепетное отношение композитора к церковному певческому канону и его практическому воплощению в церковной службе, отметив, что «мировоззренческие и художественные взгляды композитора находятся в русле современного переосмысления эстетического восприятия русской духовной певческой практики и особенностей национальной музыкальной традиции» [5, с. 74].
В настоящее время и в области древнерусского песнотворчества и музыкальной культуры православного мира продолжаются исследования Т. Ф. Владышевской, A. C. Бе-лоненко, А. Н. Кручининой, В. И. Мартыно- ва, Н. Ю. Плотниковой, Л. В. Кондрашковой, П. В. Терентьевой, С. Ю. Поляковой (Португалия), Я. И. Губанова (США), Ф. Барнса (США), М. П. Рахмановой. В области музыкальной эстетики на сегодняшний день трудятся исследователи В. А. Чернобровкин, Л. П. Ши-повская, В. А. Апрелева Е. Г. Мещерина, Т. М. Грязнова, И. Р. Корнышева.
Таким образом, нами были освещены исторические аспекты развития русской духовной музыки в свете эстетической мысли, которые подтвердили непреходящее значение музыкального духовного искусства в его главных категориях, таких как возвышенность, красота и осмысленность в различных сферах бытования: канонической церковной, духовного концерта или академического жанра на духовный сюжет. Духовно-музыкальное творчество, несомненно, имеет эстетическую направленность, которая обладает глубоким воздействием на человека, выступая универсальным принципом, конституирующим художественное произведение.