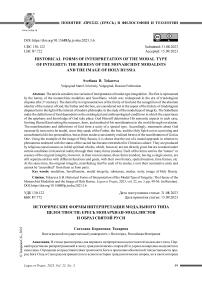Исторические формы интерпретации модального типа целостности: ересь монархиан-модалистов и образ Святой Руси
Автор: Токарева С.Б.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие αιρεσισ (ересь) в философии и теологии: от античности до современности
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены два варианта интерпретации целостностей модального типа. Первый представлен распространенной в эпоху триадологических споров (III в.) ереси монархиан-модалистов и савеллиан. Отрицание ее представителями троичности Бога и признание абсолютной тождественности природ Бога Отца и Сына рассматривается не в аспекте истории триадологических споров, но в свете интереса современной философии к исследованию модального типа целостности. Определения Бога савеллиане ставят в зависимость от тех онтологических и антропологических условий, в которых протекает опыт богоявления и богопознания: Бог Сам в каждом случае определяет Свои смысловые аспекты, ограничивая Себя и задавая меру, форму и способ своей явленности в мире через откровение. Проявления и определения Бога образуют всеединство особого типа. Соответственно, высказывания о Боге с необходимостью оказываются модальными, поскольку говорят об Отце, Сыне и Святом Духе не как о сосуществующих и единосущных Божественных Личностях, а как о трех модусах (последовательно реализующихся формах) проявления Бога как Единого. На примере образа Святой Руси показано, что в христианской культуре закрепилось использование модального подхода применительно к феноменам, наделяемым статусом сакрального. Они продуцируются религиозным сознанием как исходные духовные целостности, которые, однако, не являются непосредственно данными, но открываются при определенных условиях в исторической реальности через множество своих форм (модусов). Каждая из форм несет в себе «природу» или сущность исходной целостности; однако в своем реальном существовании эти формы (модусы), имея единый источник, являются все же отдельными образованиями с разными функциями, целями, с собственной историей, пространственной локацией, временными рамками и т. д. При этом исходная целостность, проявляя себя в каждом из своих модусов, не является их суммативным единством и не может быть «собрана» из них как из частей.
Модализм, савеллианство, модальная целостность, субстанция, модус, всеединство, образ святой руси
Короткий адрес: https://sciup.org/149145056
IDR: 149145056 | УДК: 130.122 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.3.6
Текст научной статьи Исторические формы интерпретации модального типа целостности: ересь монархиан-модалистов и образ Святой Руси
DOI:
Цитирование. Токарева С. Б. Исторические формы интерпретации модального типа целостности: ересь монархиан-модалистов и образ Святой Руси // Logos et Praxis. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 49–56. – DOI:
Причиной возникновения ереси монархи-ан-модалистов, появившейся в начале III в. в Малой Азии – важнейшем историческом центре раннего христианства – и перенесенной позже в Рим, стало стремление разрешить логическое противоречие между содержащимися в Священном Писании утверждениями о единстве Бога 1 и указаниями на Его троичность 2. Модализм как разновидность монар-хианства заключается в отрицании троичности Бога, Лица которого рассматриваются как образы (модусы), через которые Он проявляет Себя в человеческом мире. Произведений модалистов и савеллиан практически не сохранилось, источниками сведений об их взглядах являются труды Епифания Кипрского («О савеллианах, сорок второй, а по общему порядку шестьдесят второй ереси») [Епифаний Кипрский web], Василия Великого («Против са-веллиан, Ария и аномеев») [Василий Великий web], Афанасия Великого («Изложение веры») [Афанасий Великий web]. В XIX в. в рамках протестантской традиции Фридрихом Шлейер-махером в статье «О противопоставлении са-веллианского и афанасианского представлений о Троице» [Schleiermacher 1990] и Фердинандом Кристианом Бауром в работе «Церковная история первых трех столетий» [Baur 1878] были предложены реконструкции учения Са-веллия, оценки которого остаются спорными.
Учение модализма очень неоднородно, а в его распространении можно выделить три волны. Первая волна – это старый модализм. С его проповедью выступил в первой трети III в. Ноэт из Смирны, сведения о котором содержатся в сочинениях, приписываемых Ипполиту Римскому [Ипполит Римский I, II web]. В Малой Азии, однако, его воззрения не вызвали большого резонанса. Ученики Ноэта Эпигон и Клеомен, перебравшиеся в Рим, способствовали распространению там идей мо-дализма, основав собственную школу. Еще более был известен в Риме другой последователь Ноэта – Праксей, против которого был направлен известный полемический трактат Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана [Тертуллиан web].
Модалисты считали невозможным одновременно признать единство (единственность) Бога-Отца и извечность Сына, поскольку это приводило, по их мнению, к снижению статуса Христа как «второго», «низшего» Бога. Такая сниженная (по сравнению с Богом-Отцом) божественность Христа ставила под сомнение Его функции Искупителя и Спасителя, а это для отличавшихся религиозностью и твердо уповавших на спасение модалистов было неприемлемо. Придавая исключительную важность единобожию и твердо держась убеждения о полном тождестве Отца, Сына и
Духа Святого, модалисты в своих рассуждениях не углублялись в философские и богословские тонкости. Отождествив Сына с Богом-Отцом в стремлении сохранить за Христом всю полноту Божества, они, как следует из комментариев Ипполита Римского, сделали отсюда логический вывод о том, что Сын является модусом (проявлением) Бога-Отца в человеческом мире: «Если мы исповедуем Христа Богом, то Он Сам и есть Отец – если, конечно, только Он Бог. Будучи Сам Богом, Христос страдал, а так как Он же – Отец, то страдал Отец»; «Христос был Бог и, чтобы иметь возможность спасти нас, пострадал ради нас, будучи Отцем» [Ипполит Римский II web]. В ответ Тертуллиан высмеивал представления Праксея о боговоплощении за то, что из них следовало, будто «Сам Отец сошел в Деву, Сам от Нее родился, Сам пострадал, наконец… Он Сам – Христос» [Тертуллиан web].
Вторая волна модализма была связана с обращением к христианству людей философски образованных; благодаря их деятельности сложился традиционный тип христианской богословской рефлексии, использующий арсенал процедур, понятий и терминов, созданных греческой философией [Аверинцев web]. Из этой среды выдвинулся проповедовавший в Риме с начала 200-х до 230-х гг. Савеллий Птолемаидский – выходец из Ливийского Пентаполя, по имени которого модализм стали называть савеллианством. Савеллий придал учению монархиан стройность и ввел важную терминологическую новацию, именуя Бога не только «Монадой», но и «Сыноотцом» (υιοπατωρ). Тем самым утверждалось, что Бог имеет только одну сущность, одну-единственную ипостась и проявляет Себя через свое инобытие – череду последовательных форм (модусов), не нарушающих Его исходное единство. Первоначально, будучи Сам в Себе, Бог есть недоступная, безмолвная Монада; затем Он проявляет Себя как Бог говорящий, открываясь миру через Слово-Логос; наконец, в откровении Бог как Логос являет Себя миру в трех последовательно открывающихся Лицах (προσωπον): возвещающего закон Отца, Спасителя-Сына и освящающего Духа. Таким образом, согласно учению савеллиан, Лица Троицы отличаются только именами и действия- ми: «Один и тот же есть и Отец, и Сын, и Дух Святой, так что это – три именования одной ипостаси, или как тело, душа и дух в человеке. <…> Или как в солнце, хотя оно в сущности одно, находятся три действия, то есть: освещать и согревать и еще самый округлый вид. И согревающее, или теплота и жар, есть Дух, просвещающее – Сын, а самый вид всего существа есть Отец. В свое время Сын был послан как луч, и Он сделал в мире все, относящееся к евангельскому домостроительству и спасению людей, а потом вознесся опять на небо, подобно лучу, испущенному солнцем и снова возвратившемуся в солнце. Дух же Святой посылается однажды для целого мира, а потом в отдельности на каждого из удостаиваемых сего» [Епифаний Кипрский web].
Об убедительности проповеди Савеллия свидетельствует широкое распространение ереси модализма в середине III вtrf. Даже после того, как это вероучение дважды было осуждено как еретическое (на Александрийском соборе в 261 г. и на Римском соборе в 262 г.), оно имело много сторонников как в Риме, так и за его пределами, преимущественно в Ливии. Многочисленных последователей привлекала в нем не только понятная логика рассуждений, но и опирающееся на буквальную трактовку Священного Писания религиозное убеждение в том, что Христос есть Бог, принявший плоть и спасший человека. Отсутствие личностного, ипостасного различия между Богом-Отцом и Богом-Сыном казалось не очень существенным на фоне очевидности полного равенства Сына и Отца по божеству и вытекающего отсюда совершенного божества Иисуса Христа [Спасский web]. Мода-листы не ставили целью найти безупречную теоретическую формулу совмещения единобожия и тринитарности; они исходили из потребностей религиозного чувства, для которого гораздо важнее «теории» была непоколебимая уверенность в Божественной природе Христа, гарантировавшей человеку искупление и спасение.
С философской точки зрения представляет интерес разработка савеллианами учения о Божественном единстве, проявляющем Себя через Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа, мыслимых как отдельные, сменяющие друг друга пространственно-временные модусы. В этом отношении концепция мода-листов является образцом использования религиозным сознанием модальной логики [Медова 2017, 17–20] и представляет интерес не только в контексте триадологических споров, но и в свете внимания современной философии к исследованию целостностей модального типа.
Феномены, наделяемые сакральностью, составляют важный компонент христианской культуры, хотя и не имеют вероучительного характера. В этом отношении между христианской культурой и христианским богословием всегда сохраняется принципиальное различие: «сущность» христианства, зафиксированная в вероучительных текстах, трансцен-дентна по отношению к любой культуре. «Эмпирические факты христианской культуры по определению не могут являть “сущность” христианства в абсолютно беспримесном виде – иначе это была бы не христианская культура in hoc saeculo, а Новый Иерусалим и Церковь Торжествующая» [Аверинцев web]. Однако без сниженных (по сравнению с вероучительными истинами) представлений, продуцируемых христианской культурой, обойтись тоже нельзя, ибо вера нуждается в культурной реализации: «Даже хороший христианин не способен жить исключительно “последними истинами” двадцать четыре часа в сутки. Если “последние истины” составляют твердое ядро христианского вероучения, его инвариантную характеристику, – исторические варианты христианской культуры не обходятся без истин “предпоследних”, а то и вовсе полуистин» [Аверинцев web].
Духовные представления и идеи составляют в религиозном сознании особый пласт целостностей модального типа, модификации которых в качестве отдельных объектов человеческого опыта обнаруживают смысловое единство друг с другом только через отношение к исходной целостности.
Примером такого смыслового единства является образ Святой Руси. Появлению этого образа предшествовало превращение Московской Руси после падения в XV в. Византии в единственное в мире независимое православное государство, объединившее огромные территории с разнообразным этническим составом и разницей вероисповеданий, что зат- рудняло процессы культурной интеграции. Эти факторы определили первостепенное значение государственности в истории России: целостность державы в отсутствии культурного единства могла быть обеспечена только централизованной самодержавной властью. Фетишизация власти, выразившаяся в наделении государства сакральным статусом и сверхъестественной силой, стала неотъемлемым компонентом имперской идеологии, закрепившейся в качестве культурной традиции 3. Эта идеология утверждала русского царя в качестве главы православного Востока; принимала формулу «православие, самодержавие, народность»; закрепляла мессианские представления об историческом предназначении России. После того, как на русскую землю была перенесена «мировая миссия православного царства», священное призвание московской государственности получило историческое, теоретическое и богословское обоснование [Карташев web].
На этой волне на рубеже XV–XVI вв. в русском православии появился созданный простонародным религиозным сознанием и благочестивым фольклором образ Святой Руси, который А.В. Карташев назвал «качественным самоопределением России», соединившим христианство с русскостью [Карташев web]. Не имея вероучительного статуса, этот образ относится к метаисторическому (духовному) плану бытия; он представлен идеями-образцами, выражающими существо и вневременные смыслы социальных и культурных явлений, и образует «верхний, сакральный божественный мир, понимаемый как подлинная реальность» [Щербинин, Щербинина 2015, 6].
Отождествление Руси со святой землей рождает образ вызывающей благоговение святыни и меняет характер межчеловеческого общения, в котором наряду с ситуативными смыслами появляется объективный вневременной смысл, синтезирующий вокруг себя все связанные с ним феномены и представления. В христианском сознании удерживается в качестве «несомненного», «бесспорного» некоторая сакральная целостность, находящаяся за пределами внешней текучести событий и обеспечивающая в самых драматических обстоятельствах, сопровождающихся ломкой образа жизни, переоценкой всех политических ценностей, разрушением привычных устоев и т. д., точку опоры, связывающую суждения о меняющихся ценностях с вечной действительностью, которая не возникает и не уничтожается [Трубецкой web].
Непреходящая современность сакрального единства в религиозном сознании обусловлена его приверженностью к тому парадоксальному восприятию времени, которое сложилось в древнерусской культуре, воспринимавшей исторически исходную форму как всегда «стоящую впереди» в качестве начала событийного ряда, его объяснения и первопричины: «Лежащие в основе миропорядка “первые” события не переходят в призрачное бытие воспоминаний – они существуют в своей реальности вечно. Каждое новое событие такого рода не есть нечто отдельное от “первого” его праобраза – оно лишь представляет собой обновление и рост этого вечного “столбового” события. Каждое убийство братом брата не представляет собой какого-либо нового и отдельного поступка, а является лишь обновлением каинова греха, который сам по себе вечен» [Лотман 1993, 108].
Образ собранной воедино Руси мыслится как трансцендентальное единство, ориентированное на высший и совершенный идеал Святой Троицы, воззрением на которую, по мысли прп. Сергия Радонежского, «побеждается страх ненавистной розни мира сего». Благодаря этому человек обретает цельность во всех сферах жизни – церковной, государственной, хозяйственной, семейной [Сокурова 2021, 131]. Эта принудительность обусловлена пониманием образа Святой Руси как отдельного момента идеи Бога и вневременного образца, который должен быть воплощен в общественной жизни и потому превращается в «цель человеческой воли, телеологическую силу, действующую на волю в форме того, что должно быть, что есть идеал» [Франк 1992]. Этот идеал укоренен в общественной (совместной) жизни людей и проявляется в различных исторических и политических формах (модусах), для которых он служит действующей силой и подчиняющей инстанцией, без которой эти частные единства находились бы в состоянии вражды и противоборства.
Два плана бытия – сакральный и временной, исторический – не должны смешиваться; в противном случае возникают «идолы», которые, заслоняя от человека подлинную святыню, повреждают первоисточник духовной жизни – вечные, метаисторичес-кие смыслы, выступающие объединяющими началами человеческого общежития. В результате смысловая логика исторического процесса подменяется случайной и индивидуальной фактичностью (в неокантианском значении противоположности вневременной логичности).
В секулярной парадигме самодержавие и государственность – это реальные (в отличие от воображаемой Святой Руси) социальные феномены, локализованные в пространстве-времени и связанные с другими явлениями и событиями причинными отношениями. Они мыслятся как отдельные, обособленные от всех других роды бытия, что открывает простор для их фетишизации, наделения сверхъестественными свойствами. Философским основанием такой фетишизации является трактовка модусов у Гегеля как изменчивых и случайных форм инобытия исходной целостности, в многообразии которых она теряет себя. Детальный разбор механизма «идологизации» самодержавия, подменившего собою идеальный образ православного государства, дал Е.Н. Трубецкой. Главной причиной он считал нивелирование границы между вечным и временным и укоренившуюся в русском менталитете триединую формулу «православие, самодержавие и народность», связывающую православие исключительно с монархией и исключавшую его совместимость с республиканским строем или народовластием [Трубецкой web]. На этом фоне падение самодержавия не устраняет, а усиливает описанное С.Л. Франком как свойственное русскому духу «искажение нравственного сознания, выражающееся во всяком политическом фанатизме и морализме», рождающее «мечту о том, чтобы через внешние формы физического и морального принуждения внутренне облагородить человеческую жизнь и насадить в ней реальное добро» [Франк 1992]. Фетишизация и «идологизация» преходящих политических ценностей, личных свобод и т. п. приводит к искажению и строя ментальности, и политических институтов, и религиозного искусства, и теоретических установок – все начинает служить целям, чуждым священному, так что в обустройстве России больше не проглядывает образ и замысел Божественного домостроительства. Исправление этого искажения Трубецкой видит в возврате к идее Святой Руси в образе нерукотворного, «миробъемлющего» храма – святыни, отделенной от любых политических движений и переворотов и не связанной ни с какой формой правления [Трубецкой web].
Модальный подход получил всестороннее обоснование в христианской метафизике, согласно которой выражающие сакральное метаисторические идеи и ценности не существуют «сами по себе» – вне реальности и вне времени, но принадлежат миру как проявления Божественной сущности. «Истина существует не в себе самой, как и красота и добро не существуют сами по себе – это есть отдельные аспекты самооткровения Бога – в мире, то есть как формы божественных энергий, неотделимых от Бога, но и не сливающихся с непостижимой для нас “сущностью” в Боге. Мы вправе сказать, что сфера ценностей сопринадлежит миру как явления Божественных энергий, – они и трансцендентальны, то есть даны нам в нашем сознании, но и трансцендентны, будучи выявлением Божественных энергий» [Зеньковский web].
Таким образом, в русской религиозной философии мы обнаруживаем оригинальный вариант понимания сакральных идей как субстанциальных целостностей модального типа, благодаря которым жизнь христианского общества во всем многообразии своих проявлений сохраняет духовное единство.
В христианской культуре закрепилось использование модального подхода применительно к феноменам, наделяемым статусом сакрального. Они продуцируются религиозным сознанием как исходные духовные целостности, которые, однако, не являются непосредственно данными, но открываются при определенных условиях в исторической реальности лишь через множество своих форм (модусов). Каждая из форм несет в себе «природу» или сущность исходной целостности; однако в своем реальном существовании эти формы (модусы), имея единый источник, являются все же отдельными образованиями с разными функциями, целями, с собственной историей, пространственной локацией, временными рамками и т. д. При этом исходная целостность, проявляя себя в каждом из своих модусов, не является их суммативным единством, не может быть «собрана» из них как из частей.
Список литературы Исторические формы интерпретации модального типа целостности: ересь монархиан-модалистов и образ Святой Руси
- Аверинцев web – Аверинцев С.С. Смысл вероучения и формы культуры [Избранные статьи] // https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/izbrannye-stati/#sel=480:12,480:50
- Афанасий Великий web – Афанасий Великий, свт. Изложение веры // https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/Izlogenie_veri/#source
- Василий Великий web – Василий Великий, свт. Беседы // https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/Besedi/
- Епифаний Кипрский web – Епифаний Кипрский. На восемьдесят ересей Панарий, или Ковчег // https://azbyka.ru/otechnik/Epifanij_Kiprskij/na-vosemdesjaty-eresej-panarij-ili-kovcheg/2_18#sel=2:1,2:6
- Зеньковский web – Зеньковский В.В. Христианская философия // https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/osnovy-hristianskojfilosofii/2#source
- Ипполит Римский I web – Ипполит Римский. Обличение всех ересей // https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/oblichenie-vseheresej/
- Ипполит Римский II web – Ипполит Римский. Против ереси некоего Ноэта // https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/protiv-eresi-nekoegonoeta/
- Карташев web – Карташев А.В. Судьбы «Святой Руси» [Карташев А.В. Церковь, История, Россия: Статьи и выступления] // https://azbyka.ru/otechnik/Anton_Kartashev/sudby-svjatoj-rusi/#source
- Лотман 1993 – Лотман Ю.М. «Звонячи в прадъднюю славу» [Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3 т. Т. III]. Таллин: Александра, 1993. С. 107–111.
- Медова 2017 – Медова А.А. Онтология модальности : монография. Ч. 1. Логические, богословские и философские основания. Красноярск: СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2017.
- Сокурова 2021 – Сокурова О.Б. Сакральные архетипы и символы Святой Руси // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 3 (11). С. 121–137.
- Соловьев 2018 – Соловьев К.А. Идея самодержавия (конец XIX – начало XX в.) // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. II, № 2. С. 48–69.
- Спасский web – Спасский А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов // https://azbyka.ru/otechnik/Anatolij_Spasskij/istorija-dogmaticheskih-dvizhenij-v-epohuvselenskih-soborov/
- Тертуллиан web – Тертуллиан. Против Праксея (Adversus Praxean) // https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/protiv-prakseja/#0_2)
- Трубецкой web – Трубецкой Е.Н. О христианском отношении к современным событиям // https://azbyka.ru/otechnik/novonachalnym/pravoslavie-pro-et-contra/19
- Франк 1992 – Франк С.Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992.
- Щербинин, Щербинина 2015 – Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. Конструкт «Святая Русь» и его смысловые актуализации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 3 (31). С. 5–14.
- Baur 1878 – Baur F.C. The Сhurch History of the First Three Centuries. V. I–III. London: Williams and Norgate, 1878.
- Schleiermacher 1990 – Schleiermacher F. Ueber den Gegensatz der sabellianisch en u. athanasianischen Vorstellung von der Trinität // Traulsen H.-F. (ed.). Bd. 10. Theologischedogmatisch e Abh andlun gen und Gelegenheitsschriften. Berlin, N. Y.: De Gruyter, 1990. S. 145–223.