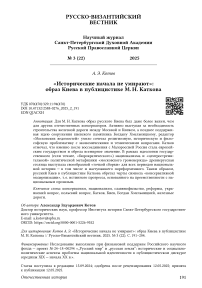«Исторические начала не умирают»: образ Киева в публицистике М. Н. Каткова
Автор: Котов А.Э.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 3 (22), 2025 года.
Бесплатный доступ
Для М. Н. Каткова образ русского Киева был даже более важен, чем для других отечественных консерваторов. Активно выступая за необходимость строительства железной дороги между Москвой и Киевом, а позднее поддерживая идею сооружения киевского памятника Богдану Хмельницкому, редактор «Московских ведомостей» умело сочетал религиозную, историческую и философскую проблематику с экономическими и техническими вопросами. Катков отмечал, что именно после воссоединения с Малороссией Россия стала европейским государством и обрела всемирное значение. В рамках идеологии государственного (если точнее, «бюрократического») национализма и «центростремительной» политической метафизики «московского громовержца» древнерусская столица выступала своеобразной «точкой сборки» для всех периодов национальной истории — в том числе и наступавшего пореформенного. Таким образом, русский Киев в публицистике Каткова обретал черты символа «консервативной модернизации», т. е. истинного прогресса, основанного на преемственности с национальным прошлым.
Консерватизм, национализм, славянофильство, реформы, украинский вопрос, польский вопрос, Катков, Киев, Богдан Хмельницкий, железные дороги
Короткий адрес: https://sciup.org/140313301
IDR: 140313301 | УДК: 070(470):329.11:94(470) | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_2_191
Текст научной статьи «Исторические начала не умирают»: образ Киева в публицистике М. Н. Каткова

Михаил Никифорович Катков, литография 1860-х гг.
Для М. Н. Каткова образ русского Киева был даже более важен, чем для других отечественных консерваторов. Московский публицист лучше большинства современников умел сочетать «идеалистическую» (т. е. философскую, историческую и филологическую) проблематику с технической и экономической. Его пропаганда в пользу строительства киевской железной дороги — наиболее яркий пример подобного подхода.
Называя Киев «одним из самых жизненных пунктов» России, редактор «Московских ведомостей» обличал один из главных просчетов петербургской политики: «…мы забыли об этой матери городов русских, о великом историческом значении юго-западной части нашего отечества и нашего народа, — мы забыли, наконец, о том, что уже давно миновала та железная необходимость, которая приковала нас к окну, прорубленному Петром, и что мы гораздо ближе к Европе, гораздо ближе ко всем нашим евро-
пейским интересам на Юге, чем на Севере. Мы забыли о Киеве, запустили и забросили его, забыли его во множестве губернских городов наших и дали развиться нелепым надеждам на возможность или отнять его у нас силой, или украсть хитростию, как будто найдется на Руси хоть один человек, не потерявший прав на звание русского, который не содрогнулся бы при мысли, даже самой отдаленной, об отторжении Киева1».
Все это Катков трактовал как одно из проявлений постоянно обличаемого им безволия русской политики, создававшего предпосылки для успеха «польской интриги» и невыгодно отличавшегося от политики западных государств: «Мудрено ли, что польское подземное правительство поместило в своем гербе киевского Михаила Архангела, когда мы сами так мало сознавали потребность связать Киев с остальною Русью? Удивляться ли польским притязанием на юго-западный край, когда мы сами не придавали важности тому, чтоб он теснее соединился с нами? Взгляните на австрийскую сеть железных дорог и посмотрите потом на русскую: вас поразит различие взглядов, в них высказывающееся»2. Чуть позднее публицист прибавлял к этому: «Центр западного края есть Киев. Оставляя его вне сети железных дорог, мы отступали бы не только перед польскими притязаниями; мы отступали бы, что важнее, перед Германией и усиливали бы значение Австрии, как политическое, так и коммерческое»3.
Впрочем, не щадил Михаил Никифорович и общество в лице своих либеральных оппонентов, выступавших за строительство киевско-одесской линии: «Слепота, наведенная на наших публицистов, по-видимому, ничем не излечима. Если они не хотят взять на себя тяжкий труд серьезного размышления о деле, за которое льются потоки крови, то хоть руководствовались бы они суждениями публицистов польских, хоть положились бы на их политический взгляд. Те придают особенную важность соединению Волыни и Киева с Царством Польским: не следует ли из этого, что мы должны придавать особенную важность соединению Волыни и Киева с Москвой? Неужели это не ясно как день? Каким волшебством нужно быть околдовану, чтобы даже этого не видать? А между тем многие из наших публицистов не видят этого»4.
По утверждению московского публициста, польский вопрос не будет решен, «…пока Киев будет оставаться простым губернским городом, a для того, чтобы политическое значение Киева могло возвыситься, необходимо соединить его железным путем с Москвой и Петербургом. Только тогда Киев, „матерь городов русских“, может возыметь свое великое значение для русской земли и, присоединившись к нашим первенствующим городам, дать новую силу и новый блеск как нашей внутренней, так и нашей внешней политике. В Киеве, возвращенном к его первоначальному великому значению для нашей земли, мы найдем могущественный залог прочности нашего государственного единства и самую выгодную опору для того международного действия, которое предстоит нам как православной державе. Ввиду этих великих и очевидных целей, указываемых нашею историей и всем ходом современных политических дел, мы можем сказать без преувеличения, что судьба России связана с вопросом о московско-киевской железной дороге. Строить ее — значит достраивать Русскую Землю. Железный путь из Москвы до Киева есть путь России к совершению ее исторических судеб. Вера в эти судьбы ее, эта вера, которой можно ожидать только от русских людей, должна служить основанием доверия к предприятию, которого выгодность совершенно зависит от будущего государственного значения нашего златоверхого, нашего святого Киева»5.
При этом Катков подчеркивал, что его борьба в данном вопросе связана не со страхом утратить Киев, но продиктована заботой об общерусском прогрессе: «Киев есть твердыня России, коренной русский город, который никогда не перестанет быть русским городом и главною опорой России в юго-западном крае. Возвышение Киева именно потому и нужно, что это город бесспорно русский и что в то же время к нему бесспорно тяготеет весь юго-западный край. Связать такой город с Москвой, значит усилить в нем то, что уже и без того сильно, что уже и теперь составляет силу России, — значит придать России новое могущество. Есть ли смысл оставлять такой город вне сети железных дорог, из опасения, чтоб он не утратил того характера, которым теперь отличается? Русские люди не дорожили бы так Киевом, если бы сомневались в том, что принадлежность его России есть нечто нераздельное с существованием русского народа. Свяжите Киев с Одессой прежде, нежели с Москвой, — Россия потеряет много в своем могуществе и благосостоянии, но будьте уверены, что она не потеряет Киева. Нет той силы и нет той интриги, которые могли бы вырвать Киев у России, пока существует на свете русский народ. Повторяем: только потому, что русские люди так смотрят на Киев, только потому он и дорог им. Не из опасения за Киев не следует связывать его с Одессой прежде, чем с Москвою, а из того опасения, что в таком случае Россия лишила бы себя возможности вполне воспользоваться значением Киева, этого несокрушимого оплота ее на юго-западе»6.
Выступая за приоритетное строительство московско-киевской линии, Катков начинал с уже изложенных исторических причин: «Нет сомнения, что дальнейший ход нашей исторической жизни, что дальнейшие судьбы Русского государства существенно связаны с нашим югом. Только там и оттуда может быть окончательно решен польский вопрос; только там можем мы окончательно утвердить наше государственное единство и установить наше всемирно-историческое значение, и политическая мудрость нашего времени должна постоянно иметь в виду Киев, при всех своих соображениях. Может ли система путей сообщения, это могущественное орудие нашего времени, упускать из виду юго-западный край Руси? Можно ли предоставить его игре случая и, наконец, можно ли допустить мысль, чтобы государство само не могло связать Киев с линией, идущею вон из России, прежде, чем он связан с линией, идущею внутрь ее? Не должны ли напротив все правительственные усилия клониться к тому, чтобы прежде всего и сильнее всего связать Киев с Москвою и, предупредив этою внутреннюю связью все другие возможные связи, отнять у них все то, что может быть вредного и опасного и оставить только то, что может быть истинно полезным и для местных интересов, и для целой России? Петербург, соединенный с Москвою, и Москва, соединенная с Киевом, — вот вся Россия, ее прошедшее, настоящее и будущее, — ее будущее, сомкнувшееся с давним прошедшим»7.
В декабре 1863 г. Катков развивал эту мысль: «…В чем заключается главная задача русской истории? В чем величайшая необходимость России в настоящее время? Для кого прошедшее России не мертвая буква, кто вникал в него сердцем и мыслию, — тот поймет, что теснейшая связь между Москвой и Киевом, между восточною половиной России и ее западною половиной есть исполнение самого настоятельного завета Русской истории. Кто, освободившись от всех посторонних соображений и интересов, представит себе с полною ясностию и живостью современное положение дел, тот поймет, что вся будущность России зависит от теснейшего соединения ее восточной половины с западною, которая так долго была от нее оторвана, которая и теперь у нее оспаривается и которая нуждается в усиленном притоке всех народных интересов как нравственного, так и экономического свойства, чтобы выйти из своего двусмысленного положения и стать органическою частью целого. Если на всем пространстве от Москвы до Черного моря можно какую-либо линию назвать магистральною, имея при этом в виду общий национальный и государственный интерес России, то линия эта есть Московско-Киево-Одесская»8.
Разумеется, при этом «московский громовержец» апеллировал и к «земной», практической аргументации: «Но оставьте даже в стороне высшие соображения, основанные на исторических интересах и целях русской народности и русского государства, и бросьте взгляд на изданные центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел сведения о распределении населения в России. Не правда ли, что наиболее населенные местности наиболее нуждаются в путях сообщения, и что железные дороги с своей стороны нуждаются в доходе, a наиболее доходны бывают, когда проходят местами густонаселенными? Что же мы видим? Какие части России населены гуще других? Это именно губернии, лежащие от Московской до Подольской полукругом, обращенным своею дугой к югу, — Московская, Тульская, Орловская, Курская, Полтавская, Киевская, Подольская. Сама народная жизнь, исторически развивавшаяся, образовала этот пояс, связывающий Москву с древнею колыбелью Руси. Не ясно ли, что это тот пояс, которым само собою обозначается направление железной дороги, имеющей для России первостепенное значение, — первостепенное уже потому одному, что ею воспользовались бы губернии наиболее насе-ленные?»9 Однако и эти соображения также завершались историческим обобщением: «Россия не tabula rasa ; у нее есть история, и у ее истории есть результаты. Имеем ли мы основания упускать из виду эти результаты и не пользоваться ими? Железные дороги — великая сила; они могут вызвать новые связи, создать новые центры, но не должны ли они действовать еще могущественнее, когда соединяют центры уже существующие и скрепляют связи, уже созданные историей?»10
Незадолго до утверждения концессии на строительство Курско-Киевской железной дороги «Московские ведомости» давали краткий очерк истории отношения прежних царей к Киеву, из которого Катков делал следующие выводы: «Теперь позволительно надеяться, что наш древний златоверхий Киев получит право записать нынешнее царствование золотыми буквами на скрижалях своей истории. Все государи России, державшиеся национальной политики, высоко ценили эту матерь городов русских <…>. Лишь теперь можно предусматривать ту счастливейшую минуту нынешнего благополучного царствования, когда будет вправе сказать о нем благодарная Россия, что оно упрочило ее единство, подвергшееся было сомнению, что оно в самом коренном государственном вопрос не только соблюло верность великим преданиям русской истории, древней и новейшей, но и уменьшило возможность нарушения их в будущем. Главным предметом внутренней политики явственно оказывается теперь западная окраина государства. Усвоение ее русскому народу впервые в русской истории становится целью, ясно сознаваемою не только дальновидными государственными людьми, что всегда было, но и всею массой образованного общества, и можно даже сказать, всею массой народа. Этим в значительной степени обеспечивается та неизменность общего национального направления внутренней политики, которая составляет принадлежность всякого государства, окончательно сложившегося»11.
Но подчеркивая неразрывную связь Киева с Россией, Катков не мог, разумеется, игнорировать и свой традиционный сюжет — «польскую интригу», в которой представители «русской партии» первоначально видели единственную угрозу русскому Киеву: «…если нечего опасаться успехов измены в среде южно-русского народа, то нельзя не опасаться нового кровопролития или, по крайней мере, новых интриг со стороны тамошней интеллигенции . Не даром польское революционное правительство учредило особенный исполнительный департамент по делам Руси; не даром польские мятежники стали издавать в Киеве революционный журнал под названием “ Walko”, то есть „ Борьба“. Есть немало признаков, что им все еще угодно смотреть на Киев как на вторую Варшаву и что они надеются на подтверждение этого взгляда дальнейшим ходом дел»12.
Чуть позже московский публицист возмущался: «В Киеве, в древнем православном русском Киеве слышится повсюду польская речь и тон всему обществу дает незначительное польское меньшинство, пользуясь своим богатством и независимым положением, — польское меньшинство, которое не только не хочет считать себя частию русского народа, но и враждует против него тайно и явно»13. «Наглые требования» этого «меньшинства» были слишком очевидным поводом упрекнуть в слабости киевскую администрацию: «Всех этих обстоятельств было бы слишком достаточно для того, чтобы мы, не успокаиваясь видимым спокойствием юго-западного генерал-губернаторства, внимательно следили за совершающимся в нем ходом событий. Всякий русский следил бы за подобными явлениями, если б они происходили даже в незначительном углу Русской земли. Но они происходят в Киеве и окрест Киева; и нет города, который был бы дороже Киева русскому человеку»14. Впрочем, и здесь Катков подчеркивал, что корень проблемы — в недостаточно «национальной» политике Петербурга15.
Для того, чтобы «значение поляков в этом крае не совпадало с значением высших классов общества»16, Катков предлагал противопоставить шляхте местную русскую общественность, особенно остро осознававшую опасность польских «притязаний»: «Русское (именно русское, a не польское) общество в Киеве более раздражено, чем где-нибудь в России. Нельзя же не обратить никакого внимания на это бедное русское общество, по крайней мере в Киеве, где оно имеет столько причин и поводов скорбеть и раздражаться. Киев — колыбель России, Киев, связанный с нашими драгоценнейшими историческими воспоминаниями, Киев подвергается вопросу и спору, — в Киеве с наглостию предъявляются враждебные России притязания горстки поляков, — предъявляются в то время, когда Россия считает себя могущественным государством, великою европейскою державою, и когда ее правительство имеет в своем полном распоряжении все силы и средства многочисленнейшего в Европе народа, — народа цельного, единодушного, преданного, готового на всякие пожертвования, на всякую борьбу за целость и нерушимость своей государственной области…»17
Несколько месяцев спустя, когда судьба шляхетского восстания была решена, передовая «Московских ведомостей» сообщала: «Вести из Киева становятся благоприятнее. Пишут, что в этом городе русский дух совершается воочию. Слава Богу! Пора же наконец по крайней мере в Киеве, этой древней столице нашей, „матери городов русских“, по слову летописца, пора здесь русскому духу чувствовать себя не загнанным, робким, стыдящимся себя пришельцем, а бесспорным и полным хозяином»18. Но «для того чтоб оживление русского духа могло возыметь полную силу в разных местностях нашего отечества, где ему приходится бороться с духом сепаратизма, необходимо, чтобы русское национальное чувство поднялось и усилилось в центре, — необходимо, чтобы возвысился уровень нашей жизни, чтоб она освободилась от недоразумений и фальши, которые ее сковывают и лишают движения, — необходимо, наконец, чтобы чувство несокрушимого политического единства русских владений выразилось с несомненною энергией, и чтоб оно обнаруживалось не в минуты крайней опасности, но было постоянно действующею, связанною со всеми общественными интересами, над всем господствующею силою»19.
Впрочем, поводы усомниться в несокрушимости русского единства появились уже тогда, и Катков был в числе первых, кто привлек внимание общества к нарождавшемуся украинскому национализму — пророчески названному им «призраком, который стал бы вампиром целых поколений»20. В контексте пропагандистской подготовки валуевского циркуляра собственно образ Киева был не столько предметом рефлексии, сколько очевидным в глазах Каткова аргументом в пользу ложности украинофильской теории: «Неужели наши украйнофилы, бессознательно завлеченные в интригу, будут работать на нее даже и теперь, когда народ на Украйне так энергически доказал свою преданность общему отечеству и когда по селам Русского царства, у всех в устах и на сердце имя Киева, златоверхого Киева, — имя, производящее могущественное действие на всякого русского человека, какой бы он ни был уроженец, — имя, в котором, быть может, еще более единящей силы, чем в имени самой Москвы? Наши украйнофилы должны пристальнее вглядеться в лицо софизмам, которыми их обольщают. Если Русская земля должна быть одна и русский народ должен быть один, то не может быть двух русских народностей, двух русских языков: это очевиднее, чем дважды два четыре. А если Украйна не может иметь особого политического существования, то какой же смысл имеют эти усилия, эти стремления дать ей особый язык, особую литературу и устроить дело так, чтоб уроженец киевский со временем как можно менее понимал уроженца московского, и чтоб они должны были прибегать к посредству чужого языка для того, чтобы объясняться между собою? Какой же смысл искусственно создавать преграду между двумя частями одного и того же народа и разразнивать их силы, между тем как только из взаимнодейстия их сил может развиваться жизнь целого, благотворная для всех его частей?»21
Важнейшим из антиукраинофильских тезисов Каткова был общерусский характер современного русского языка, одним из центров формирования которого и являлся Киев: «…нет ничего ошибочнее, как видеть в русском языке какое-то племенное великороссийское наречие. Язык, известный под именем русского, сложился долговременною историей из разнородных стихий, и первый памятник этого ныне употребляемого нами языка принадлежит Киеву; это летопись Нестора, первый акт исторического самосознания русской народности. История нашего языка еще не закрылась. В нем могут произойти еще большие или меньшие перемены, в него могут быть внесены еще новые начала, в нем могут быть возбуждены еще новые, теперь дремлющие стихии»22.

Генерал-губернатор Юго-Западного края Александр Павлович Безак, 1865 г.
Юго-западная Русь с Киевом во главе представала залогом основанного на исторической преемственности общерусского развития: «В этих местах была колыбель Русского государства, здесь впервые началось самосознание русского народа, здесь совершились первые эпохи его истории, здесь его историческая почва, здесь первые ростки его исторической жизни. Замечательно, что предания нашей отдаленной древности, по преимуществу связанной с этими местами, с Днепром и Киевом, сохранились главным образом в северо-восточной половине нашего народа, среди которого уцелело Русское государство, а с тем вместе и память первоначального национального единства»23. Чуть позже Катков развивал эту мысль: «Там было начало и первое средоточие Русской земли, и туда восходят все наши народные предания, наши народные былины, которые еще поются на отдаленном севере, уже забытые на юге, — там положены первые основы нашей исторической жизни, и там мы впервые стали историче ским и христианским народом. Мы уверены, что с дальнейшим развитием судеб возрождающейся ныне России все сильнее и сильнее будет заявлять себя сила тех первоначальных основ русской народности, которые связаны с воспоминанием о Киеве, и южная, киевская Русь получит несравненно большее значение в судьбах нашего отечества, чем когда-либо имела»24.
С назначением на должность киевского генерал-губернатора А. П. Безака и вплоть до его отставки «Московские ведомости» последовательно и безусловно поддерживали киевскую администрацию. Так, одна из передовиц начала 1866 г. была посвящена реакции Александра II на новогодние поздравления, принесенные «вместе с другими местными властями» киевским и виленским генерал-губернаторами: «Благодаря их, Государь Император призывает благословение Божие на их начинания для устройства и обрусения вверенных им областей. В торжественной силе этих немногих слов не слышится ли голос самой истории, творящей события и решающей судьбы государства? Не слышится ли в них начало новой эпохи, в которую вступила Россия? Эти слова вводят нашу политику в круг идей, совершенно для нее новых, и мы не преувеличим их значения, если скажем, что они знаменуют собою пробуждение к жизни русского народа и навсегда выводят его дело из сомнения и неясности»25. Делая акцент на деятельность именно Безака и цитируя напечатанные «Киевлянином» речи, произнесенные киевскими деятелями в честь годовщины его назначения, Катков давал краткий очерк тех задач, которые решала администрация западнорусских окраин: крестьянский вопрос, распространение в регионе русского землевладения, строительство железной дороги «из Москвы в Одессу через Киев с ветвию к австрийской границе», «утверждение русского языка в крае и решительное отделение полонизма от Католической Церкви» и, наконец, «оживление Православной Церкви и поднятие православного духовенства в этих местах, где русский народ впервые стал народом христианским». Во всем этом Катков ус матривал «неразрывную систему» , в которой с «разных сторон выражается один

Братский Богоявленский монастырь и духовная академия в Киеве, конец XIX в.
и тот же вопрос» — т. е. все та же задача укрепления единства и развития русской политической нации26.
Разумеется, вопросы, связанные с Православной Церковью, московский редактор также не игнорировал — но подавал их в своем, отличном от славянофильского, ключе. Так, в начале 1868 г. «Московские ведомости» перепечатали из «Киевлянина» адрес православного духовенства Липовецкого уезда Киевской губернии, в котором «духовенство наше впервые отозвалось корпоративно на преобразования, коснувшиеся его быта и долженствующие в своем развитии возвратить ему, а с ним и вообще Церкви, достоинство, свободу и жизнь, в которых они так нуждаются». Поддержав этот адрес, редактор газеты особенно подчеркнул значимость того, что «потребность лучшего впервые с особенною энергией сказалась посреди духовенства Киевской епархии»: «В Киеве началась наша духовная жизнь; здесь в продолжение веков было средоточие нашего христианского просвещения; сюда восходят древнейшие и драгоценнейшие предания нашего православия; здесь оно выдержало испытание борьбы, которая развила в нем энергию, разумение и чувство достоинства; здесь православное духовенство не составляло особой породы, и, несмотря на то, что общие условия, сковавшие нашу церковную жизнь, распространились и сюда, на здешнем духовенстве не отпечатлелся еще тип касты. Если здесь находится начало нашей духовной жизни, то здесь же весьма естественно должна с особенною живостию чувствоваться и потребность ее обновления. К великому счастию для нашего отечества, эта потребность обновления духовной жизни не есть явление случайное и разобщенное, заглушаемое и подавляемое силою вещей противного свойства, но согласуется со всеми великими интересами нашего народного быта и настоятельно требуется ими. Преобразование, в котором нуждается гражданская организация нашей Церкви, предопределяется всем ходом наших нынешних преобразований, которые могут принести свой плод не прежде, как организация духовной жизни в нашем народе примет характер, вполне ей соответственный»27.
Но, пожалуй, центральной и для околоцерковных, и для околоукраинских нарративов Каткова стала передовица от 29 сентября 1869 г., посвященная 50-летию преобразования Киевской духовной академии. Называя последнюю «поистине старейшим средоточием просвещения в нашем отечестве», Катков делал акцент прежде всего на ее роли в европеизации России: «Воссоединение Киева с восточною Русью при царе Алексее Михайловиче было событием величайшей важности. Это не было только расширением границ Московского государства. Киев есть не просто город, Киев есть принцип — так же, как и Москва. Историческая истина и сила жизни не в той или другой половине русского народа, но в их органическом единении. Получив обратно свой Киев, Россия очутилась в обладании высоко стоявшим, во всей силе европейским, но вместе и совершенно русским рассадником просвещения»28. Отдавая должное петровским преобразованиям, Катков задавался риторическим вопросом: «Почему Россия вошла в европейскую систему не так, как вошла в нее Турция, a сразу внушила к себе уважение и заставила признать себя однородным и равноправным членом общей великой семьи европейских наций?» Ответ на этот вопрос звучал в его интерпретации так: «Более глубокое изучение истории нашей культуры со временем раскроет во всей ясности факт, ускользающий от рутинного взгляда. Факт этот есть тот, что начало того просвещения, за которым мы обращались к Европе, уже находилось в нашем обладании, что в нашей народной среде уже были умственные силы, однородные с теми, которые составляли преимущество европейских народов, и что именно этим силам мы были обязаны своими действительными успехами и тем, что не изнемогли в раболепном подчинении чужому уму. Эти умственные силы, которых действие при внимательном изучении можно проследить на всех поприщах нашей жизни, вышли главным образом из Киевской духовной академии и из тех школ, которые от нее прияли свет свой»29.
Дав краткий очерк истории этой духовной школы, Катков заключал: «Киевская академия была тою крепкою греко-латинскою школой, в которой заключается истинный корень европейского образования. Из стен ее выходили люди, закаленные в умственном труде, истинные бойцы мысли и слова. С воссоединением Киева, питомцы его академии распространились по всей России. На святительских кафедрах Московского государства, где прежде не только священники, но иногда и сами иерархи едва умели читать и писать, появились просвещенные, сильные умом и словом богословы»30. Но перечисляя имена славных выпускников академии, ее главную заслугу «московский громовержец» видел в следующем: «Это древнее учреждение, еще нося скромное название школы, вместе с некоторыми другими подобными, разрабатывало, как было выше помянуто, русский язык и русскую историю в то время, когда о том еще и не думали в Москве. Первая славяно-русская грамматика, первый славяно-русский словарь и первая прагматическая история России написаны учителями или бывшими воспитанниками школ Западного края. Славяно-греко-латинская академия в Москве была отпрыском Киевской, которая дала ей и преподавателей, и предметы преподавания и руководства, и методы. В других духовных и в разных светских учебных заведениях действовали в продолжение всего XVIII века большею частию тоже киевские питомцы. Вот чем расплачивался Киев с Москвою; вот те таинственные, духовные узы, которые воссоединили восточную половину России с западною; вот факты, разбивающие в прах теории, проповедующие о национальной розни между двумя половинами русского народа. Тщательное изучение истории нашего языка засвидетельствует, что именно киевская ученая школа установила литературный язык наш»31. Наконец, завершалась статья следующим призывом: «Как ни велики права Киева на народную память, историческая миссия его не кончилась с его древним величием. Петь ему надобно не вечную память, а многая лета. Исторические начала не умирают <…>. Чему Киев был обязан развитием тех умственных сил, которые он внес в обновлявшуюся жизнь общего отечества? Своей европейской школе и той духовной борьбе, которая шла в заднепровской Руси. Церковь в Киеве была предоставлена собственным силам, и она обнаружила их. Свободная Церковь сделала то, чего никогда не в силах сделать церковное учреждение, обеспеченное полицейской охраной и цензурой. Да отзовется же еще раз в нашей жизни то начало, которое выразилось в историческом призвании Киева. Теперь действие его необходимо. Без духовного оживления мы не в силах будем идти далее»32.
Приняли «Московские ведомости» участие и в кампании по подготовке сооружения в Киеве памятника Богдана Хмельницкому — всячески поддерживая одного из главных инициаторов этого проекта и своего рода «патриарха» киевского русского национализма М. В. Юзефовича33. Разместив на страницах газеты очередное письмо последнего, Катков в передовой статье представлял читателю подробное и яркое описание Переяславской рады, значение которой описывал таким образом: «В самом деле, что была Россия на половине XVII века? Обширное, но бедное государство, отброшенное в дальний северо-восточный угол Европы, без морей, без торговли, без просвещения, без политического значения и с весьма слабыми вероятностями занять видное место на исторической сцене. Русский мир, границы которого так широко наметил равноапостольный князь Киева, был разбит на части, расхищен, порабощен чужестранцами, ему грозила та же участь, как и прочему славянству… Присоединение Украины разом изменило все положение дел»34. Именно событие 1654 г. предопределило дальнейший рост и всемирное значение России35. Из этого московский публицист заключал: «Событий столь важных, счастливых и славных, как дело, совершенное Богданом Хмельницким, мало во всей тысячелетней истории России, и можно удивляться лишь тому, что оно давно уже не увековечено бронзой или гранитом…»36
Данное обстоятельство Катков вслед за Юзефовичем объяснял, возвращаясь к старому спору начала 1860-х гг. — попыткам сословных консерваторов того времени приравнять Хмельницкого, а заодно и славянское освободительное движение к революционной крамоле. Парадоксальным образом такие консерваторы смыкались с этой «крамолой», также пытавшейся взять на вооружение образ народного вождя: «…в интересах многих было, как замечает г. Юзефович, представлять Богдана Хмельницкого чем-то вроде Пугачева. Другие нелепые мечтатели пытались воспользоваться именем знаменитого батька казачьего для того, чтобы разрушить его собственное дело; они толковали о Малороссии, отдельной от России, и старались выставить Киев соперником Москве… Нет, Киев есть символ единства всея Руси, — Великой и Малой, Белой, Черной и Червонной, а Богдан Хмельницкий был одним из великих собирателей России»37.
Несколько месяцев спустя, рассказывая о посещении государем мастерской Микешина, Катков называл время Хмельницкого временем, когда «решался вопрос о том, останется ли Русью эта изначальная часть Руси или сделается Польшей, — сохранит ли свои исторические права и свою русскую национальность народ Украины, или польская шляхта, подчинив его себе, сотрет мало-помалу исторические его особенности, — раздвинется ли Польша на восток до Днепра и далее, или же Россия вступит в свои древние, исторические и этнографические границы»38. Вновь возвращаясь к «шипению и свисту» «известной партии», приравнивающей Хмельницкого к Спартаку и Пугачеву, редактор «Московских ведомостей» резюмировал этот спор: «Нет,

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. Скульптор М. О. Микешин, 1888 г. Надписи на постаменте гласили: «Волим под Царя восточного, православного» и «Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия» (убраны в советское время). Фото конца XIX в.
с именем Богдана Хмельницкого. Это
национальная идея не есть случайность; она не есть выдумка „московских демагогов”, будто бы как-то навязанная ими правительству, в чем хотят уверить нас известные партии. Для государства выбор между политикою национальною и анти-национальною есть то же, что выбор между жизнию и смер-тию». При этом Катков указывал, что, вопреки дворянским критикам национализма, сам термин «обрусение» не является новейшей выдумкой, а вошел в употребление при Екатерине II, стремившейся сделать так, чтобы «сии провинции… обрусели и перестали глядеть, как волки в лесу»39.
Сообщая об открытии подписки на сооружение памятника, Катков вновь подчеркивал: «Русь, старая Русь Владимира Святого, не может быть не чем иным, как Русью! В самом деле, что такое это присоединение Украйны, начатое батькой Богданом? Это не завоевание, каких много делала Россия в последние три столетия; это даже не то, что обыкновенно зовется добровольным подчинением, как подчинение Грузии: это соединение двух частей одного изначального целого, одного народа; это восстановление исторической правды, нарушенной случайными событиями. Части расторгнутого целого вновь проникаются жизнию и взаимно стремятся к слиянию, — вот смысл явления, первый и величайший акт которого неразрывно связан совершенно то же явление, которое на наших глазах совершилось в Италии, и которое совершается в Германии»40. Завершались кат- ковские рассуждения следующим выводом: «Еще несколько лет тому назад возникали, если не ошибаемся, сомнения в том, следует ли дать Богдану место на монумент в память тысячелетия России, теперь ему торжественно отводится место в пантеоне великих людей Русской земли, в числе славных деятелей русского народа. Это значит,
что наша национальная идея много созрела в этот краткий промежуток времени, и что нет более сомнений, что Малороссия есть природная, неделимая часть России, что она не придаток, не завоевание. Памятник Хмельницкому в Киеве, вблизи памятника Владимира Равноапостольного, раздвигает область русской истории до ее естественных пределов и говорит об одном из важнейших в ней событий, — о том событии, с которого началось возрождение России к исторической жизни…»41
Позднее, в 1871 г. публицист указывал на главные вехи подлинной, а не внешней европеизации России: «Богдан Хмельницкий, Екатерина, Пушкин — знаменательные имена, обозначающие лестницу восхождения России от безвестного полуазиатского государства на степень великой европейской державы и цивилизованной нации!»42 При этом значение Киева не ограничивалось для Каткова собственно русскими пределами: «Только по воссоединении с своею западною половиной Россия могла стать европейскою державой, и не прежде, как это воссоединение станет вполне правдою, русский народ может считать свое развитие обеспеченным. Западная половина без восточной не заключает в себе никаких условий для самостоятельного существования и может стать только театром смятения и хаоса; восточная половина без западной может вести только существование азиатского ханства. Разъединение этих двух половин было бы делом разрушения и ущербом для человечества; их полное органическое единство есть условие существования великой державы, условие цивилизации всемирного значения»43. Здесь московский публицист отчасти предвосхищал утверждение З. Бжезинского, согласно которому «любое новое евразийское государство, базирующееся исключительно на власти России, без Украины, неизбежно с каждым годом будет становиться все менее европейским и все более азиатским»44.
В рамках идеологии государственного (если точнее, «бюрократического») на-ционализма45 и «центростремительной» политической метафизики «московского громовержца»46 древнерусская столица выступала своеобразной «точкой сборки» для всех периодов национальной истории — в том числе и наступавшего пореформенного. Таким образом, русский Киев в публицистике Каткова обретал черты символа «консервативной модернизации», т. е. истинного прогресса, основанного на преемственности с национальным прошлым.