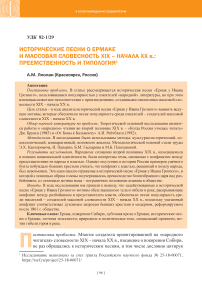Исторические песни о Ермаке и массовая словесность XIX – начала XX в.: преемственность и типология
Автор: А.М. Лисман
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Слово молодым исследователям
Статья в выпуске: 3 (32), 2025 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. В статье рассматривается историческая песня «Ермак у Ивана Грозного», пользовавшаяся популярностью у писателей «народной» литературы, но при этом имеющая сюжетное несоответствие с произведениями, созданными писателями массовой словесности XIX – начала XX в. Цель статьи – в ходе анализа исторической песни «Ермак у Ивана Грозного» выявить ведущие мотивы, которые обеспечили песне популярность среди писателей – создателей массовой словесности XIX – начала XX в. Обзор научной литературы по проблеме. Теоретической основной исследования являются работы о «народном» чтении во второй половине XIX в. – «Когда Россия училась читать» Дж. Брукса (1985) и «От Бовы к Бальмонту» А.И. Рейтблата (1992). Методология. В исследовании были использованы методы: культурно-исторический, социологический, компаративный, мотивного анализа. Методологической основой стали труды Э.Х. Канторовича, И. Паперно, Б.М. Гаспарова и М.Б. Плюхановой. Результаты исследования. Народному сознанию второй половины XIX в., находящемуся в поисках национальной идентичности, были интересны темы, связанные с конфликтом между представителями из народа и властью. Однако отсутствие в истории России примеров удачного бунта побуждало бывших крестьян считать, что конфликт с властью, решенный в пользу народа, был невозможен. Эти идеи нашли отражение в исторической песне «Ермак у Ивана Грозного», в которой с помощью образа головы подчеркивалось превосходство богоизбранного царя над разбойником, а с помощью мотива воды – пограничное положение атамана в обществе. Выводы. В ходе исследования мы пришли к выводу, что задействованные в исторической песне «Ермак у Ивана Грозного» мотивы обезглавленного тела и гибели в реке, раскрывающие конфликт между разбойником и представителем власти, обеспечили песне популярность среди писателей – создателей массовой словесности XIX – начала XX в., поскольку указанный конфликт соответствовал духовным запросам бывших крестьян в модерном, реформируемом после 1861 г. обществе.
Ермак, покорение Сибири, лубочная проза о Ермаке, исторические песни о Ермаке, поэтика телесности, природное и политическое тело, социальный организм, мотив гибели героя в реке
Короткий адрес: https://sciup.org/144163521
IDR: 144163521 | УДК: 82-1/29
Текст научной статьи Исторические песни о Ермаке и массовая словесность XIX – начала XX в.: преемственность и типология
Постановка проблемы. Многие создатели ориентированной на «народного читателя» словесности XIX – начала XX в., писавшие о покорении Сибири, не раз обращались к историческим песням, в том числе дословно цитируя их. Так, А.С. Суворин в рассказе «Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири» (1898) и Л.П. Шелгунова в рассказе «Ермак. Исторический рассказ времен покорения Сибирского царства» (1915) приводят без изменений одну из вариаций песни «Разбойный поход на Волгу», а П.И. Небольсин в историческом рассказе «Ермак» (1849) и Н.А. Полушин в произведении «Атаман Ермак Тимофеевич, покоритель Сибирского царства» (1890) цитируют песню «Ермак в казачьем кругу».
В корпусе исторических песен, которые привлекались авторами демократической литературы о Ермаке, есть одна, представляющая особый интерес для исследователя, – песня «Ермак у Ивана Грозного». В ней описывается, как Ермак лично приезжает к Ивану Грозному с «повинной головой», дарит царство Сибирское и хочет обрести милость царя. В некоторых версиях песни Ермак лишь мечтает о встрече с Иваном Грозным и о том, как царь его простит и даст в награду «славной тихой Дон», но в действительности встречи не происходит.
Названный сюжет не был реализован в демократической словесности XIX – начала XX в.: в произведениях этого периода Ермак чаще заменяется персонажем-двойником Иваном Кольцом, который едет в Москву вместо атамана, что с большей вероятностью соответствовало действительности. Однако, несмотря на замену героя, напрямую взаимодействующего с Иваном Грозным, писатели XIX – начала XX в. зачастую цитировали песню «Ермак у Ивана Грозного». Так, Л.П. Шелгунова и Н.А. Полушин в названных выше текстах, а также В.П. Андреевская в произведении «Ермак» (1901) приводят эту песню, вплетая ее в общее повествование. Например, после диалога Ивана Кольца с Грозным Л.П. Шелгунова пишет: «Вот что поется по этому поводу в песне: <…>»2.
В связи с этим у исследователя возникает закономерный вопрос: почему песня «Ермак у Ивана Грозного», в отличие от других полностью или частично вымышленных песен о Ермаке (например, «Поход голытьбы под Казань», «Взятие Ермаком Казани», «Ермак и Ицламбер-Мурза» и др.), пользовалась популярностью у писателей XIX – начала XX в.?
Цель статьи – в ходе анализа исторической песни «Ермак у Ивана Грозного» выявить ведущие мотивы, которые обеспечили песне популярность среди писателей – создателей «народной» литературы XIX – начала XX в.
Обзор научной литературы . Теоретической основной нашего исследования являются работы о «народном» чтении во второй половине XIX в. – «Когда Россия училась читать» Дж. Брукса (1985) и «От Бовы к Бальмонту» А.И. Рейтблата (1992). В этих трудах исследователи стремились ответить на два вопроса: «Как Россия смогла за полвека значительно увеличить читающую аудиторию?» и «Какие темы были близки этой читающей аудитории?». В ходе предпринятых разысканий исследователи пришли к общему выводу: реформы 1860–1870-х гг. привели к увеличению численности грамотных крестьян, которые раньше считали
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)

чтение ненужным и даже обременяющим, а после отмены крепостного права убедились в полезности этого занятия. Будучи все еще малообразованной, новая читающая аудитория нуждалась в материалах, соответствующих ее уровню, особенностям запроса и культурным привычкам. Таким материалом стала «лубочная» литература, которая освещала волнующие «низового» читателя темы. Так, среди бывших крестьян стали популярны темы о бандитизме и преступности, национальной идентичности и путешествиях, нашедшие отражение в текстах о покорителе Сибири Ермаке.
Опираясь на названные выше работы Дж. Брукса и А.И. Рейтблата, мы сможем обозначить причины популярности исторической песни «Ермак у Ивана Грозного» в «низовой» словесности XIX – начала XX в.
Методология. В нашем исследовании использованы методы: культурноисторический, социологический, компаративный, мотивного анализа. Акцент делается на работах Э.Х. Канторовича «Два тела короля» (русский перевод – 2015) и И. Паперно «Самоубийство как культурный институт» (1999), посвященных сближению смысловых контуров «телесного» и «политического», на работе Б.М. Гаспарова «Поэтика “Слова о полку Игореве”» (1984), в которой автор реконструирует семантику обезглавленного тела, и на работы М.Б. Плю-хановой «Гибель Петра I в реке Смородине» (1982) и «О национальных средствах самоопределения личности: самосакрализация, самосожжение, плавание на корабле» (1999), в которых поднимается вопрос об истоках мотива утопления и плавания на корабле.
Результаты исследования. Как отмечает А.И. Рейтблат, бывшие крестьяне, научившиеся читать, быстро стали проявлять неудовлетворенность своим местом в социальной иерархии: «Гнет властей <…> порождал чувство бесправия и стремления к свободе – и в лубочной литературе важную роль стал играть образ благородного разбойника и бунтаря, издавна существовавший в фольклоре» [Рейтблат, 2009, с. 166]. Таким образом, «низового» читателя стала интересовать напряженность отношений между свободой и порядком. Однако, несмотря на возрастающие бунтарские настроения бывших крестьян, порядок все еще оставался сильнее свободы: раскаявшиеся разбойники отказываются от свободы, чтобы искупить свою вину и вернуться в общество, из которого они когда-то ушли.
Об этом пути от греха к искуплению и повествует сюжет о покорении Сибири Ермаком, который, как отмечает Дж. Брукс, был одним из самых популярных среди исторических «лубочных» нарративов второй половины XIX в. [Brooks, 1988, p. 79, 364]. Кульминационным центром этих произведений, в которых личность одновременно и идет по пути самоутверждения, и склоняет голову перед верховной властью, оказывается сцена посольства к Ивану Грозному под предводительством Ивана Кольца. Однако вопрос о том, зачем писатели «низовой» литературы цитировали историческую песню «Ермак у Ивана Грозного», в которой освещаемые события не соответствовали действительности, остается открытым.
Вероятно, несмотря на то, что согласно сюжету произведений XIX – начала XX в., с Грозным взаимодействует напрямую не сам Ермак, а Иван Кольцо, песня «Ермак у Ивана Грозного» была упомянута авторами потому, что заключала в себе важные мотивы, раскрывающие конфликт между свободой и порядком, что отвечало запросам читателей «лубочной» литературы. В качестве примера можно привести задействованный в песне образ головы : «Приношу тебе буйную головушку / И с буйной головой царство Сибирское!»3.
В различных народах с образом головы было связано множество смыслов. Она является символом разума, человеческого духа и жизненной силы, а ее отсечение означает отлетание души [Гаспаров, 1984, с. 204] и гибель тела .
Особенно четко выявленная связь прослеживается в фольклорной традиции, поскольку в былинах и исторических песнях смерть как героев, так и их врагов зачастую была связана с отсечением или разбиением головы. В качестве примера можно привести множество стихотворений из сборника «Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (1804): Алеша Попович расшибает, а после отсекает голову Тугарину Змеевичу4, татары казнят Семена Пожарского, отрубив ему голову5, Добрыня Никитич срубает голову бабе Горынинке6 и пр.
В XVI в. мотив отсечения приобретает дополнительный подтекст, связанный с жестокостью правления Ивана Грозного. Многочисленные казни выводят на первый план тему телесного – разбиения, разделения, расчленения . Во «Временнике Ивана Тимофеева» (начало XVII в.), в котором описываются времена правления Грозного царя, неоднократно повторяется мысль о том, как монарх разделил Русь и людей: «Во гневе своем разделением раздвоения едины люди раздели <…> и всю землю державы своея, яко секирою, наполы некако разсече»7. Таким образом, отмечает дьяк Иван Тимофеев, Грозный разделил русское пространство подобно живому телу, «напоил кровью» землю и подверг людей различным мучениям.
В дальнейшем свирепость царя была описана и в других источниках, например в многотомном труде Н.М. Карамзина «История государства Российского» (1816–1824), в котором автор осуждал жестокость Ивана Грозного, считая, что она нанесла огромный ущерб стране. По мнению историка, именно завоевание Сибири помогло преодолеть тот кризис, который возник во времена царствова ния Ивана Г розного [Карамзин, 2024, с. 931].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
Несмотря на сохранившиеся исторические факты о жестокости Ивана Грозного и его деструктивном правлении, писатели «из народа» не могли себе позволить критику власти, поскольку все еще верили в богоизбранность царя, а его свирепые казни и опалы оправдывали внешними факторами, в том числе болезнью государя или изменой бояр. Именно поэтому в художественных произведениях XIX – начала XX в. информация о жестокости Ивана Грозного опускалась или уходила на второй план. Если автор позволял себе сделать акцент на царских казнях и опалах, то обязательно писал о нравственных терзаниях Ивана Грозного и его раскаянии. Так, в историческом романе А.К. Толстого «Князь Серебряный» (1862) Иван Грозный «заливается слезами», мучается от кошмаров, в которых ему снятся безвинно убитые им люди, и возносит молитвы Богу, прося прощения за свои деяния: «Боже, помилуй мя, грешного! Помилуй мя, смрадного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, Господи, души побитых мною безвинно!»8.
В качестве другого примера можно привести «Рассказы из русской истории» (1869) А.Н. Майкова, в которых царь «хотел правды», стремился быть справедливым и вершил суд над народом, но при этом, чувствуя вину за гибель невинных людей, судил и себя: «Исчисляя все свои прегрешения, называя себя окаянным, кровопийцею, чревоугодником и “псом смердящим”, он жаждал совсем оставить мир»9.
В приведенных выше примерах мы наблюдаем, как в образе Ивана Грозного отделяется «тело природное» от «тела политического». Вслед за Э.Х. Канторовичем, описавшим средневековую концепцию двух тел короля, можно сопоставить русского царя с шекспировским Ричардом, являющимся, как и Иван Грозный, «Божьим избранником», но при этом имеющим слабую человеческую природу и потому испытывающим духовные муки [Канторович, 2015, с. 93–112]. Однако, несмотря на несовершенство «природного тела», решения «тела политического» остаются неоспоримыми и неподвластными критике . Именно поэтому в «лубочной» литературе XIX – начала XX в. бунт разбойника против власти всегда был обречен на провал, и, согласно народным представлениям, только государство и церковь имели моральное право помиловать преступника.
Возвращаясь к сюжету о Ермаке, отметим, что заслужить прощение Ивана Грозного с помощью патриотического подвига – это единственный для казаков-разбойников способ снова обратиться к порядку и воссоединиться с обществом . Однако, учитывая исторический контекст правления Ивана Грозного, в народной песне «Ермак у Ивана Грозного» сцена вверения царю «головы», а вместе с нею и царства Сибирского приобретает дополнительный метафорический смысл: Ермак, принеся голову, а также приравненную к ней Сибирь, соединяет воедино русское пространство , разделенное Иваном Грозным. Таким образом, не только русская земля соединяется с новой территорией, но и разделенный
Иваном Грозным народ соединяется воедино, празднуя это значимое для страны событие, предвещающее возрождение «потонувшей в крови» Руси. Именно поэтому Сибирь так тесно связана с образом головы, ведь воссоединение головы с телом (ср. Сибири с русским пространством) символизирует воскрешение, возвращение души .
Голова также является символом власти , поскольку на ней располагаются такие атрибуты правителей, как короны и венцы. Некоторые авторы демократической словесности XIX – начала XX в. отмечают, что Ермак, имея храброе войско и снискав уважение местных жителей, в том числе и сибирских князей, мог не отправлять посольство к Ивану Грозному с целью преподнести ему Сибирское царство, а самому стать полноправным царем Сибири, образовав новое государство. При упоминании этого выбора, стоявшего перед атаманом, авторы часто вводили в повествование образ венца Кучума , который либо был найден казаками после того, как хан оставил столицу Сибири Искер, либо был принесен Ермаку татарами. Возложить венец Кучума на голову символизировало бы желание Ермака обрести власть. Вот как описывает эту сцену А.Н. Майков в «Рассказах из русской истории» (1869): «Венец Кучумов был в его руках… Ермак мог бы возложить его себе на голову… Всякой вольницы из России, с Волги и с Дону, к нему потянуло бы множество, и был бы он силен и славен, и повелевал бы народами… Так бы и сделал иной – только не русский человек»10.
Ермак, в образе которого соединились народные представления о смиренном разбойнике, отказывается от власти и передает ее единственному истинному правителю, избранному Богом, – Ивану Грозному. На множестве живописных иллюстраций, изображающих посольство казаков к Ивану Грозному, Кольцо преподносит царю венец Кучума как завоеванный трофей. В качестве примера можно привести иллюстрацию к изданию «Живописный Карамзин, или Русская история в картинках» (1836) Б.А. Чорикова под названием «Атаман Кольцо с товарищами бьют челом Иоанну Грозному Царством Сибирским»11. Аналогичным образом, согласно этой довольно древней логике, Ермак из исторической песни «Ермак у Ивана Грозного», принеся голову царю, а вместе с ней и царство Сибирское, передает Ивану Грозному не только власть над собой («иль казнить его, или вешати, иль во всех винах его простити»12), но и власть над новой захваченной территорией – Сибирью.
Примечательно, что Ермак, принесший повинную голову Ивану Грозному, в итоге сам остается «без головы». Так, в финале одной из версий песни «Ермак у Ивана Грозного» смерть Ермака описывается следующим образом: «И для помощи
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
своих товарыщев он, Ермак, похотел перескочити на другую свою коломенку, и ступил на переходню обманчивую, правою ногой поскользнулся он – и та переход-ня с конца верхнего подымалася и на его опущалася, расшибла ему буйну голову и бросила его в тое Енисею, быстру реку. Тут Ермаку такова смерть случилась»13.
Несмотря на популярность в литературе разных эпох мотива разбиения или отсечения головы, он полностью исчез из демократической словесности о Ермаке XIX – начала XX в. В большинстве текстов этого периода смерть атамана описывается следующим образом: Ермак, окруженный врагами, бросился в реку, чтобы доплыть до лодки, и утонул под тяжестью кольчуги, подаренной Иваном Грозным.
Символика воды имеет множество толкований. Она с древних времен ассоциировалась как с очищением и возрождением (например, древнегреческий миф о Геракле «Авгиевы конюшни», Всемирный потоп в Библии, обряд крещения), так и с гибелью (например, река Стикс в древнегреческой мифологии, погребальные драккары в скандинавской мифологии). По мысли М.Б. Плюхановой, «христианские и языческие понятия о значении воды и о смысле погружения в нее, смешавшись, придали мотиву воды в русской традиции колеблющийся, зыбкий характер» [Плюханова, 1982, с. 26].
Вполне однозначным оказывается образ реки , в народном представлении означающий границу между миром живых и миром мертвых . Разбойники – это «пограничные» персонажи , находящиеся всегда между двумя мирами, а сюжет об атаманах представляет типичный мифологический цикл: гибель-воскресение по Б.М. Гаспарову [Гаспаров, 1984, с. 20] или «расставание-инициация-возвра-щение» по Дж. Бруксу [Brooks, 1988, p. 169], опиравшемуся на известную работу В.Я. Проппа «Морфология сказки». Это позволяет, вслед за Б.М. Гаспаровым [Гаспаров, 1984, с. 195–196], сопоставить сюжет о Ермаке с библейской «Притчей о блудном сыне»: начиная разбойную жизнь, Ермак отделяется от общества, расточает «имение» отца (ср. Русскую землю), совершая грабежи на Волге, а затем возвращается к отцу (ср. царю Ивану Грозному) и заслуживает прощение, что ознаменовывается всеобщим праздником и ликованием. Исходя из этого, отделение атамана от общества означает смерть героя, а его возвращение – воскресение .
Метафорическая смерть атамана – это его пребывание в потустороннем царстве, именно поэтому разбойники имеют крепкую связь с демоническим. Так, Дж. Брукс, опираясь в том числе на демократическую словесность о Ермаке, отмечает: «Пляшущие бандиты у костра на берегу Волги и их шумное застолье после ограбления речного судна – все это свидетельствует об их связи с демоническим» [Brooks, 1988, p. 183]. Эту связь ощущал и народ, поэтому в некоторых уральских преданиях Ермак воспринимается как предводитель нечистой силы. В качестве примера можно привести зафиксированный В.В. Блажесом народный сюжет о связи Ермака с чертями, при помощи которых он брал Казань и Астрахань [Блажес, 2002, с. 108].
Таким образом, в народном представлении мир разбойничьих свободы и веселья – это мир греха, не подчиненный порядку, поэтому разбойник всегда чувствует потребность вернуться в общество, что символизирует близкое народной мысли превосходство общества над личностью. В сюжете же о Ермаке это возвращение, связанное с мотивом вверения головы, приобретает более существенное значение и воспринимается как акт спасения Русской земли в печальный для государства период: соединение головы (ср. атамана) с телом (ср. Русской землей) .
Однако, несмотря на метафорическое воскресение разбойника, он все еще остается связан с потусторонним миром, потому и находит смерть в воде – на границе двух миров. Как отмечает М.Б. Плюханова, атаманы – это герои воды, проводящие большую часть времени на корабле: «Такой герой в воде неуязвим, вместе с тем и смерть принимает в воде же» [Плюханова, 1999, с. 448]. Примечательно, что связь атаманов с водой отмечали и создатели демократической словесности XIX – начала XX в. Так, П.И. Небольсин в историческом рассказе для детей «Ермак» (1849) вплетает в повествование лингвистическую заметку об этимологии слова «атаман»: «И так корнем нашего слова атаман служат два немецкия слова Watter, Wasser вода и Mann человек»14. Исходя их этого, вода оказывается образной доминантой судьбы героя-атамана, в том числе и Ермака: от триумфа победы в полуводном сражении до гибели в воде.
В фольклорной традиции было немало персонажей, тесно связанных с водой. Помимо других атаманов (Разин и Пугачев), это также были и былинные герои (Садко и Василий Буслаев). Наиболее близким к Ермаку нам кажется Садко, ведь его образ, как и образ покорителя Сибирского царства, связан не только с мотивом воды, но и с мотивом вверения головы. Так, в сборнике «Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (1804) приводится стихотворение «Садков корабль стал на море», в котором герой пересекает границу между миром живых и миром мертвых, опускаясь на морское дно, а затем приносит морскому царю свою голову: «И ждал Садка двенадцать лет, / А ныне Садко головой пришел»15.
Сопоставляя сюжеты исторической песни «Ермак у Ивана Грозного» и стихотворения «Садков корабль стал на море», можно найти в них общие черты, характерные для героев-корабельщиков: благодаря плаванию новгородский купец Садко смог разбогатеть, а донской атаман Ермак смог покорить Сибирское царство, из-за чего, согласно народным представлениям, они обязаны заплатить воде дань. Однако Ермак, в отличие от Садка, не избавляется от дани чудесным образом, а п латит ее, погибая в Енисее/Иртыше.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
Мотив гибели в реке М.Б. Плюханова напрямую связывает с дерзновенным поступком и в целом поведением. Ермак, как разбойник, не побоявшийся пойти против царя, а потом своей смелостью заслужить его прощение, погибает в реке, но уже как герой.
Стоит отметить, что как в исторических песнях, так и в демократической словесности XIX – начала XX в. можно найти сюжеты, в которых Ермак сам приказывает казакам сбрасывать убитых врагов в реку. Так, в песне «Казаки убивают царского посла» есть следующая фраза: «Ермак Тимофеевич / Приказал их до смерти бити / И бросати в матку Волгу-реку»16. По сюжету песни на пьяных казаков «напущалися» солдаты персидского посла Коромышева. Внезапное нападение «ради корысти своея» можно приравнять к проявлению дерзости, за которую и солдаты, и посол получили заслуженное наказание: «И прибили их всех до смерти»17.
Таким образом, дерзость, проявленная Ермаком, хоть и привела его к смерти, но помогла сформировать в памяти потомков образ народного героя, а солдаты посла Коромышева были убиты и не получили посмертной славы. Вероятно, такая разная судьба «дерзнувших» персонажей связана с различием их места в социальном организме (corps social). Согласно исследованиям в области психологии коллективного человека, Ермак «со товарыщи» (постоянно повторяющаяся летописная формула) мыслятся как единое «тело» ( body – «тело», «сообщество», «группа людей»), в котором Ермак является «головой», или «душой». И. Паперно, описавшая в работе «Самоубийство как культурный институт» (1999) идеи «моральных статистиков», отмечала следующее: «Тело, лишенное души, само собой обращается в ничто» [Паперно, 1999, с. 120]. О подобном писал и Э.Х. Канторович, используя вместо «души» слово «глава»: «Глава, как правило, представлялась в качестве ответственной части тела и ее отсутствие могло сделать корпоративное тело неполным или же недееспособным» [Канторович, 2015, с. 425]. Так и казаки, оставшиеся без Ермака, потеряли возможность удерживать завоеванную территорию и были вынуждены отступить, перенеся «второе покорение Сибири» (Н.М. Карамзин) на более позднее время. Такая ситуация смогла актуализировать значимость Ермака и его вклад в развитие и расширение границ государства, а также обеспечить ему посмертную славу.
Обозначенный выше коллективизм прослеживается во множестве произведений о Ермаке. Так, мы можем обнаружить его в Строгановской летописи (XVII в.), где Ермак как отдельный индивидуум появляется редко, гораздо чаще используется модель «Ермак Тимофеев с товарыщи» и «Ермак Тимофеев с со-ратниками»18. А вот как описывается настроение казаков после смерти Ермака в «Рассказах из русской истории» (1869) А.Н. Майкова: «Как умер Ермак – тут-то и оказалось, что это был за человек. Стрельцы и казаки остались без него как без головы. Душа всего дела – исчезла. <…> Оставшись как овцы без пастыря, казаки и стрельцы устрашились. Думали уж только о том, как бы уйти в Россию»19. Эти примеры подтверждают мысль о том, что в народном представлении Ермак с товарищами как коллективное тело перестает существовать тогда, когда от него отделяется голова / душа, потому что тогда нарушается целостность тела.
Исходя из этого, сцена гибели Ермака в исторической песне «Ермак у Ивана Грозного» раскрывает двойственность человеческой природы : атаман имеет два тела – человеческое и коллективное. Разбиение головы символизирует гибель не только реального физического тела атамана, которое осталось без «головы», но и социального , которое осталось без «главы».
После смерти Ермака и коллективное, и природное тело перестают существовать. Так, во многих литературных источниках физическое тело Ермака пропадает в воде, что позволяет причислить его к группе заложных мертвецов , которые в народных представлениях не находят покоя в загробной жизни и продолжают находиться в пограничном состоянии между миром живых и миром мертвых, а также зачастую появляются на месте своей смерти в виде призраков. Так, В.В. Блажес отмечает, что, согласно народным преданиям, Ермак появляется на Иртыше «то в сияющих доспехах, то в шубе, подаренной ему за подвиги Иваном Грозным» [Блажес, 2002, с. 70].
Такая судьба героя-атамана казалась справедливой для писателей «лубочной» литературы второй половины XIX в., поскольку преступник – это персонаж, нарушивший социальные устои, а его пограничное положение между миром живых и миром мертвых подтверждает, что на путях утверждения модерна в пореформенном обществе народ был все еще ограничен уверенностью в том, что индивидуальный человек слабее политической власти и социального порядка.
Заключение. Подводя итоги, отметим, что народному сознанию второй половины XIX в., находящемуся в поисках национальной идентичности, были интересны темы, связанные с конфликтом между народом и властью. Герои-бунтари, способные добиться успеха вне зависимости от их социального положения, привлекали внимание читателей «низовой» словесности. Однако отсутствие в истории России примеров удачного бунта побуждало бывших крестьян считать, что конфликт с властью, решенный в пользу народа, был невозможен. По этой причине герой-бунтарь всегда возвращался после своих приключений не хозяином двух миров, а смиренным и раскаявшимся преступником, вверяющим свою жизнь законному представителю власти. Эти идеи нашли отражение в исторической песне «Ермак у Ивана Грозного», в которой с помощью образа головы подчеркивалось превосходство богоизбранного царя над разбойником, а с помощью мотива воды – пограничное положение атамана в обществе. Таким образом,
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2025. № 3 (32)
писатели – создатели «народной» литературы обращались к тем фольклорным произведениям, которые, вне зависимости от степени их достоверности, соответствовали литературным запросам «низового» читателя XIX – начала XX в.