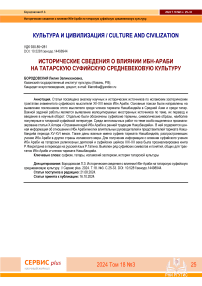Исторические сведения о влиянии Ибн-Араби на татарскую суфийскую средневековую культуру
Автор: Бородовская Л.З.
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 3 т.18, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу научных и исторических источников по исламским эзотерическим трактатам знаменитого суфийского мыслителя XII-XIII веков Ибн Араби. Основные поиски были направлены на выявление поклонников этого мыслителя среди членов тариката Накшбандийа в Средней Азии и среди татар. Важной задачей работы является выявление малоцитируемых иностранных источников по теме, их перевод и введение в научный оборот. Отдельно были обозначены суфийские термины, символические образы, наиболее популярные в татарской суфийской литературе. Среди англоязычных работ по теме особо выделена и проанализирована статья Х.Алгара «Отражения идей Ибн Араби в ранней традиции Накшбандийа». В ней содержится ценная информация об отношении к Ибн Араби многих влиятельных руководителей и представителей тариката Накшбандийа периода XV-XVI веков. Также даны важные имена суфиев тариката Накшбандийа, распространивших учение Ибн Араби в другие страны исламского мира. Для получения информации о влиянии суфийского учения Ибн Араби на татарских религиозных деятелей и суфийских шейхов XIX-XX века была проанализирована книга Р.Фахретдина в переводе на русский язык Р.Гатина. Выявлен ряд суфийских символов и понятий, общих для трактатов Ибн Араби и членов тариката Накшбандийа.
Суфизм, татары, исламский эзотеризм, история татарской культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/140308356
IDR: 140308356 | УДК: 930.85+281 | DOI: 10.5281/zenodo.14498944
Текст научной статьи Исторические сведения о влиянии Ибн-Араби на татарскую суфийскую средневековую культуру
Ибн Араби Мухйи ад-дин Абу Абдаллах Мухаммад б. Али ал-Хатими ат-Таи (1165-1240). Величественные титулы, которыми наградили Ибн Араби в разное время: «Валийу-Ллах (“Приближенный к Аллаху”), Ариф би-Ллах (“Познавший Аллаха”), Алим раббани (“Господний ученый”), Амил Самадани (“Действующий по божественному вдохновению”) и аш-Шейх аль-Акбар (“Величайший шейх”)» [8, с.6]. Его трактаты по теории суфизма оценивается высоко многими современными исламоведами, так как ему удалось соединить в единую систему знания о мистицизме на арабском языке [2, c.182; 4, с.19].
Ибн Араби – это второй суфийский ученый, живший после Абу Хамида ал-Газали (1058-1111), имевший влияние на татарскую средневековую суфийскую культуру. Ибн Араби часто опирается на трактаты ал-Газали, признавая его идеи близкими для себя, в работе «Составление окружностей» он цитирует предшественника [4, с. 61]. Многие научно-теоретические мысли о суфизме этих двух мыслителей совпадают, и они были восприняты татарскими шейхами Накшбандийа в разные века.
Трактаты Ибн Араби по свидетельствам историков были известны на территории Волги и Урала примерно с XIV века [8, с.211]. Татарские религиозные деятели XIX – начала XX вв. Ш. Мар-джани (1818-1889) и Р. Фахретдин (1859-1936) написали книги об Ибн Араби для татарской просвещенной аудитории, восполняя недостаток сведений на татарском языке об этом знаменитом ученом. Риза Фахретдин написал две книги из серии «Знаменитые мужи» – «Имам ал-Газали» (1909г.) и «Ибн Араби» (1911г.) [5, с.760].
Историческая преемственность учения «Величайшего шейха» в XX веке: появилось несколько суфийских групп, основанных на традициях Араби, их основатели: Ахмад ал-‘Алави (ум. в 1934 г.) – тарикат ал-‘Алавийа; Мухаммад ал-Мадани (ум. в 1959 г.) – ал-Маданийа [1, с.159].
Целью данной работы является выявление источников по отношению к Ибн Араби последователей тариката Накшбандийа, как известно их было много не только в Средней Азии, но и среди поволжских татар в средние века. Имеющиеся научные пробелы в описании истории татарской суфийской культуры до XX века, недостаток источников на русском языке – все это определяет актуальность статьи. Задача данной работы – выявить татарских суфийских деятелей, положительно воспринявших учение об исламском эзотеризме из трактатов Ибн Араби и сделать краткий обзор суфийских символических форм, описанных у Ибн Араби в иносказательных образах.
Литературный обзор
С 1977 г. в Великобритании действует Общество Мухйи ад-дина Ибн Араби (Muhyiddin Ibn Arabi Society /MIAS) [15], оно было основано с целью содействия более тщательному научному анализу творчества ибн Араби и его преемников (ibnarabisociety.org). В данной работе будут представлены несколько англоязычных работ членов MIAS, посвященных ценным рукописным трактатам последователей тариката Нашбандийа и анализу суфийской символики в самих трактатах Ибн Араби – это статьи Х.Алгар [10], Дж.Элмор [12], П. Лори [13] и Дж.Моррис [14]. Среди зарубежных книг, изданных на русском языке, ценным для нашего исследования оказалась работа Н.Х. Сеййида [6], который пишет, что Ибн Араби изложил теорию исламского эзотеризма как научное учение, сохранив традиции ислама [6, c.105].
Из отечественных русскоязычных источников, наиболее фундаментально раскрывающих ценность наследия Ибн Араби мы использовали труды И.Р. Насырова [9] и А.В.Смирнова [7]. Среди относительно новых источников по отношению татарской научной общественности к трудам Ибн Араби следует выделить перевод Р. Гатина книги Р.Фахретдина «Ибн Араби» со старотатарского на русский язык [8].
Трактаты Ибн Араби оказали сильное воздействие на ученых исламского мира средневековья и сегодня его наследие до конца не изучено. По историческим сведениям, многие суфийские шейхи хорошо знали его письменное наследие, цитировали его терминологию, обсуждали теоретические идеи [2, c.166].
Методы исследования
Для данной работы был проведен анализ имеющихся источников по теме на русском, татарском и английском языках. Выявленные научные статьи были переведены по необходимости на русский язык [10-14] и систематизированы по ключевым задачам исследования – трактаты по влиянию Ибн Араби на последователей тариката Накш-бандийа; работы татарских богословов; суфийская эзотерика.
Результаты исследования
Статья Хамида Алгара «Отражения идей Ибн Араби в ранней традиции Накшбандийа» [10] практически не встречается в отечественной науке в качестве источника по нашей теме, поэтому мы считаем важным ввести в научный оборот некоторые фрагменты этой англоязычной работы. Задача данного раздела нашей статьи – выявить основные моменты в понимании суфийской эзотерики в тарикате Накшбандийа, идущей от Ибн Араби.
Современные исследователи истории тари-ката Накшбандийа и наследия Ибн Араби приходят к выводу, что последователи этой суфийской группы хорошо знали, читали, писали комментарии на трактаты Ибн Араби. Полемика и неприятие некоторых его идей существовала всегда и мир средневековой исламской науки поделился на противников и восторженных поклонников трактатов Араби [10]. Общих представителей по силсиле между Накшбандийа и учителями Ибн Араби не найдено, но он был осведомлен о прародителе Накшбандийа – Ходже Абу Якубе Хамадани (ум. 1140г.) [10]. В XVIII веке историки находят суфия накшбанди – Муртаду аз-Забиди (ум. 1791), претендующего на хирка акбарийя, т.е. на инициати-ческое происхождение от Ибн Араби [10].
Х.Алгар приводит исторические факты того, как самые яркие представители силсилы тариката Накшбандийа, высоко ценили трактаты Ибн Араби. Рассмотрим несколько примеров только выдающихся личностей этой суфийской группы. Накш-бандийский поэт 'Ала ад-Дин Аттар (ум. 1400) почитал Ибн Араби. Позднее накшбандиец Фахр адДин 'Али Сафи (ум. 1531) в своем трактате «Раша-хат 'Айн аль-Хайат» цитирует некоторые мысли 'Ала ад-Дина.
Один из главных учеников и преемников Б.Накшбанда – Ходжа Мухаммад Парса (ум. 1419) был восторженным поклонником учения Ибн Араби. Сын Ходжи Мухаммада, Абу Наср Парса, говорил, что для его отца Fusûs al-Hikam (кратко –
Фусус, перевод – Геммы мудрости) был «душой», а Futûhât al-Makkiya (кратко – Футухат, перевод – Мекканские откровения) – «сердцем», а усердное изучение является важным для мусульман [10].
Ходжа Мухаммад Парса – один из основных теоретиков Накшбандийа, автор более 12 трактатов, в которых находит место отражение его отношения к Ибн Араби. «В Рисала-йи Кудсия, сборнике изречений Ходжа Баха ад-Дина Накшбанда, Парса комментирует некоторые из них, прибегая к терминологии и цитированию Ибн 'Араби: «Хвала Богу, который сделал Совершенного Человека учителем ангелов и заставил небесный свод вращаться посредством его дыхания, путем почитания и возвышения» [10]. Символический образ вращения небесных сфер – один из любимых в трактатах суфийских эзотериков.
Ходжа 'Убайдуллах Ахрар (ум. 1490), который был значимой фигурой в тарикате Накшбан-дийа, был хорошо знаком с трудами Ибн Араби. Трактат «Рашахат 'Айн аль-Хайят» Фахр ад-Дина 'Али Сафи, как главный опубликованный источник биографии Х. Ахрара, содержит много тем, интересовавших его в работах Ибн Араби «Фусус» и «Фу-тухат». Другой накшбандиец – поэт Абд ар-Рахман Джами консультировался с Ахраром по проблемным отрывкам «Футухат». Самый крупный труд Ахрара – трактат «Факара», излагающий духовное происхождение и мистический метод Накшбан-дийа. Ахрар ясно дал понять, что идеи Ибн Араби недоступны для интеллекта большинства людей, и поэтому метод суфийского «очищения сердца» – единственный правильный подход к восприятию истины: «Поэтому обязанность проницательных людей состоит в том, чтобы, исключив все остальное, заняться очищением зеркала своей собственной сущности от отпечатков сотворенного бытия» [10]. Здесь мы видим, как символический образ «сердца», описанный в трактатах ал-Газали и затем у Ибн Араби переходит на практически всю обрядность тариката Накшбандийа. Среди схожих терминов – «полировка сердца», «зеркало сердца» и др.
Известный накшбандийский поэт Абд арРахман Джами (ум. 1492) написал трактат на основе изречений Х.М. Парсы – «Суханан-и Хваджа
Парсе», наполненный идеями и терминами Ибн Араби. А. Джами самое крупное из своих сочинений «Naqd an-Nusûs» посвятил изложению учения Ибн Араби, написав как комментарий к «Naqsh al-Fusûs» Ибн 'Араби (автореферат к Fusûs al-Hikam). Также есть Комментарий Джами к полному тексту Fusûs [10].
Идеи Ибн Араби нашли широкое распространение через стихи А. Джами, а влияние его поэзии было огромным в Иране, Средней Азии, Индии и Османской Турции. Поэты, копирующие его стиль невольно подхватывали и образы концепций Ибн Араби.
Преданность А.Джами Ибн Араби была вдохновлена трудами М. Парсы и У. Ахрара, с которыми он лично консультировался относительно смысла отрывков из «Футухат». Защищая Ибн Араби, Джами заметил, что «если бы ал-Газали был современником Ибн Араби, у него не было бы иного выбора, кроме как последовать за ним» [10]. Еще одним ключевым объединяющим моментом стала тема суфийского обряда «тихого зикра», который проводили в тарикате Накшбандийа. Джами особо подчеркивает, что произнесение зикра «тихо» является также и методом Ибн Араби [10].
От накшбандийцев линия почитателей Ибн Араби распространилась на Османскую Турцию через Молла Абдулла Илахи (ум. 1491), родом из Симава в Западной Анатолии. Илахи был инициирован в орден Накшбандийа Ходжой Убайдуллой Ахраром в Самарканде. Далее он и Ламии Челеби / Lâmi’î Celebi (ум. 1532), которого иногда называли «турецким Джами»; многое сделали для дальнейшего распространения учения Ибн Араби в тюркоязычных странах [10].
Среди других тарикатов, почитавших учение Ибн Араби можно назвать Кубравийа, Нигматулла-хийа (основатель последнего написал комментарий к «Фусус» и к некоторым разделам «Футухат»). Можно сказать, что сакральная метафизика была общей для всех суфийских тарикатов, поэтому Ибн-Араби как теоретик этого направления науки был важен и интересен многим группам.
Обсуждение
Точная дата распространения влияния тари-ката Накшбандийа на поволжских татар неиз- вестна – это могло быть уже в XIV-XV вв., но большинство историков приводят сведения о том, что после XVI века появилось много последователей этой суфийской группы. Татары-мусульмане XVIII– XIX вв. читали и знали сочинения выдающихся суфийских ученых и поэтов: ал-Фараби, Ибн Сины, ал-Газали, Ибн Араби, Саади, Хафиза и др. [5, c.855]. Наиболее почитаемыми были труды ал-Газали и Ибн Араби. Значение двух мыслителей для татарской исламской культуры таково, что первый показал путь правоверного суфизма, а другой – открыл традиционную мудрость сквозь призму ислама, показав суфизм как неотъемлемую его часть [7, с.2-4]. Его «Мекканским откровениям» исследователи называют «энциклопедией суфизма» [6, с.112].
Татарские суфийские шейхи XIX века знали многие труды Ибн Араби, напечатанные в Каире и древние рукописные списки. По свидетельству Р. Фахретдина у шейха Накшбандийа З.Расулева в личной библиотеке хранилось множество трудов Ибн Араби [8, с.61]. Р.Фахретдин приводит мысли Ибн Араби, созвучные его пониманию суфизма как практики совершенствования духа: «Тасаввуф – это благой нрав. Когда у человека увеличивается благонравие, это свидетельствует о том, что он достиг в духовной практике совершенства. Условием для занятий тасаввуфом является наличие ума и мудрости. Нелепо называть человека, не обладающего мудростью, суфием. Последователь тасав-вуфа обязан всегда ставить перед собой имамом Благородный Коран. В противном случае он вовсе не является таковым» [8, с.110].
Сам Р. Фахретдин Р. высоко оценивая сложность трактата «Футухат» писал о необходимости создания подробного справочного аппарата для этого «моря знаний», что необходимо для татарской науки [8, с.68]. Эта книга хранилась в библиотеке Галимджана Баруди (1857–1921, основатель казанского медресе «Мухаммадия») в форме рукописной копии, приобретенной в Бухаре. [8, с.68-69]
Р.Фахретдин дает список почитателей научных работ Ибн Араби среди представителей тари-ката Накшбандийа, например, Абд ар-Рахман Джами, и приводит его высказываение о «Фусус аль-хикам»: «Знания и тайны, содержащиеся в
СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 29
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
этой книге, были вверены совершенному и безупречному шейху Мухйи ад-Дину бин Араби от самого величайшего Посланника» [8, с.162]
Далее в списке: османский историк, правовед, поэт, шейх аль-ислам – Камаль Пашазаде Шамс ад-Дин Ахмад бин Сулейман, (умер 1534 г.) [8, с.163]; татарский шейх, богослов, имам и педагог ‘Али бин Сайфулла бин ‘Абд ар-Рашид ат-Тун-тари (1772-1874) [8, с.172]; российские крупные религиозные деятели – Муса Бигиев (1875-1949, богослов, философ); Мухаммад-Хади Атласов (18761938, историк, общественный деятель и педагог); Зайнулла Расулев (1833-1917, суфийский шейх Накшбандийа-Халидийа) [8, с.216].
Татарский историк, суфийский мыслитель Шихаб ад-Дин Марджани (1818-1889) написал биографию Ибн Араби до Р.Фахретдина, последний читал эту книгу и цитирует выводы Мар-джани об Ибн Араби: «этот человек – квинтэссенция бытия, он океан истины и шариата, гордость познаний и пути; он из числа выдающихся духовных ученых, жемчужина великих ʻ арифов, утвердившихся в знаниях, знатоков Корана и сунны; он твердо стоит в науках рациональных и науках небесных» [8, с.214].
Показательным является мудрое изречение Ибн Араби, выбранное для своей книги Р.Фахретдином, оно так созвучно позициям накш-бандийских суфиев: «Аскет – это не тот, кто сторонится золота и серебра, а тот, кто не нуждается ни в ком, кроме Аллаха Всевышнего [8, с.217]. Особенностью идейных установок тариката Накшбандийа является то, что он приветствует активную трудовую деятельность своих членов, не заставляя их вести только уединенный отшельнический образ жизни, что передано традиционной мыслью «быть в трудах посреди шумного восточного базара наедине с Аллахом».
Мистические знания суфии передавали с помощью различных символов – графических, числовых, звуковых, буквенных и др. Основные эзотерические символы суфизма рассыпаны как жемчуг по страницам трактатов Ибн Араби – «божественный свет» [12, с.11], окружность с центральной точкой [12, с.8], числовые символические формы, радиусы окружности [12, с.8], «божественные имена»
[12], «сердце», «зеркало», «совершенный человек», «скрижаль и перо» [3, c.110-112] – все это есть в трактатах Ибн Араби и трудно для понимания в любые времена без суфийской инициации. Ибн Араби написал в «Геммах мудрости»: «Да будет тебе известно, что, поскольку миропорядок появился по форме Его, как мы о том сказали, Всевышний, дабы нам познать Его, предложил нам взглянуть на возникшее и упомянул, что в нем явил нам знаки Свои» [7, с.53]. Таким образом, язык символов стал средством передачи сакральных истин в исламском эзотеризме.
Проводя данное исследование, нам интересно – насколько суфийская эзотерика («скрытая наука») могла быть известна татарским суфиям по трудам Ибн Араби. Выше мы увидели, что основные понятия могли быть переданы в Волго-Уральский регион через среднеазитских последователей тариката Накшбандийа.
Накшбандийский шейх Волго-Уральского региона XIX века Зайнулла Расулев пишет в своей статье «О способе произношения букв арабского алфавита» (Расулев З. Алифба хакында. – Оренбург, 1912. – 13 с.), что опираться надо на «Мекканские откровения» в этом вопросе, приводя эзотерическую систему «абджада» как пример [9, с.78-79]. Числовой символизм букв арабского алфавита был знаком не только узко посвященным, но и многим суфийским наставникам, и даже ша-кирдам медресе.
«Наука букв» занимают важное место в исламской эзотерике. Каждое существо сравнивается с «буквой» великого космоса, управляемого поворотом сфер. Образуется картина «звучащего божественного мира». Идеи о буквах Ибн Араби выдвигает во второй главе «Футухат аль-Маккия». Арабские буквы в качестве символических форм являются ключом познания эзотерических истин для суфиев, благодаря геометрическому и числовому значению каждой из них. «Метафизика грамматики» изложена во втором разделе второй главы Futūhāt Ибн Араби [13]. Р.Фахретдин пишет: «Говорят, что Ибн Араби занимался «наукой предсказания» (илм аль-джафр) [8, с.51].
В предыдущих наших статьях мы выявили многие символические образы ислама и суфизма,
присутствующие в средневековой татарской суфийской поэзии, в текстах мунаджатов, они же описаны в сочинениях Ибн Араби (и ранее ал-Газали). Перечислим некоторые основные символы ислама, передаваемые Р.Фахретдином в книге об Ибн Араби: Ал-ляух ал-махфуз – небесная скрижаль, неизменная Книга судеб, [8, с.13]. Геометрический символ круга/окружности – как основа мироздания описан в стихах Араби:
«Крутость ли или кротость – всего и различий, что
«о» – круг, в котором блуждает ученый, не видя конца.
Это круг мирозданья, лишь выход вовне сотворит эликсир из познаний, а из знатока – мудреца» [8, с.55].
Символическое разворачивание мира в 6 этапов в числовых символических аналогиях – 1, 3, 4, 7, 40, 300. Этапы «излияния божественной благодати в этот мир» в виде числовых и образных аналогий – кутб/1 (центр), 2 имама; 4 автад (личности, считающиеся опорой и заведующей одной частью света); 7 абдал («изменяющиеся»); 40 нуджаба (вожди); 300 нукаба (благородных личностей, проверяющих скрытые дела) [8, с.113-114].
Судя по вопросам, которые ставит перед собой и читателями Р.Фахретдин, сам он не причисляет себя к суфиям, знающим «скрытые науки»: «Но в чем причина и тайна необходимости назначения, превосходящих друг друга своими степенями кутбов, гаусов, автадов и абдалов для приведения в порядок и управления вселенной, а также оказания ими благодеяний и наблюдения за смертными творениями, о которых сообщается: «Сотворение и воскрешение ваше подобно сотворению и воскрешению одного человека»? Это, вероятно, известно лишь Ибн Араби и суфиям» [8, с.199]. Р.Фахретдин верно предполагает, что за всеми этими терминами Ибн Араби стоят «завуалированные обозначения», то есть символы, доступные пониманию лишь тайным сообществам суфиев [8, с.202].
В «Футухате» Ибн Араби различает три основных типа знания – «интеллектуальное» (акл);
знание «состояний» (ахвал) и дарованное Богом знание (духовных) «тайн» (асрар), которое выходит «за пределы стадии интеллекта» и «охватывает и включает в себя все (другие формы) знания» [14, с.5]. Он пишет в главе 318: «если человек (аль-инсан) откажется от своих (собственных личных) целей, возненавидит свою плотскую душу (нафс) и вместо этого отдаст предпочтение своему Господу, то Бог (аль-Хакк) даст ему форму божественного руководства в обмен на форму своего нафса... чтобы он ходил в одеждах Света; и (эта форма) является Шариатом его пророка и Посланием его (пророческого) Посланника» [14, с.318].
Произнесение «99 прекрасных имен Аллаха» (ал-асма ал-хусна) – одна из центральных частей в суфийских ритуалах. Вслед за ал-Газали, написавшим трактат «99 прекрасных имён Аллаха», Ибн Араби дает более глубокий теоретический анализ этого сакрального символа. Статья Дж. Элмор «Четыре текста Ибн аль-Араби о творческом самопроявлении божественных имен» [12] содержит описания эзотерических трактатов, мало представленных в отечественной науке.
«‘Anqā’ mughrib» (Птица Феникс/Книга сказочного грифона, разные варианты перевода названия книги)1 – крупное литературное и доктринальное произведение раннего периода творчества Ибн аль-Араби около рубежа XIII века. Произведение написано рифмованной прозой (садж'), изобилует тонкими намеками и символикой, головоломками и криптографией. «Книга представляет собой манифест-основу доктрины Ибн аль-Араби, воплощенной в старом суфийском представлении о Печати святых (хатм аль-авлийа')». Три трактата из книги Ибн Араби «Инша’ ад дава’ир» (Kitâb in-shâ’ ad dawâ’r al ihâtiyya) («Составление окружностей») и главы №№ 4 и 66 из «Футухат аль-маккия» [12]. Ибн аль-Араби рассмотрел в этих произведениях тему классификации и иерархии, а также «символической их интерактивности» «99 прекрасных имен Аллаха» [12, с.5].
Заключение
«Скрытые истины» суфизма были сформулированы в трактатах Ибн Араби так, что стали
1 Полное название книги: «Китаб ‘анка’ мугриб фи ма‘рифат хатм ал-авлийа’ ва шамс ал-магриб» [4, с.76]
СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 31
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
опорой для духовной интеллектуальной жизни исламских народов [6, c.106]. Такое возвышенное понимание суфизма было воспринято и татарской культурой последующих веков. Многие суфийские шейхи эпохи Золотой Орды, Казанского ханства и до начала XX века были известными наставниками, учеными, государственными деятелями, поэтами, и одновременно владели «скрытыми науками», были шейхами-наставниками групп мюридов. Многочисленные символические образы «скрыты» в поэзии, шамаилях, узорах вышивки и ювелирных изделий татар мусульман, и их еще предстоит интерпретировать в духе исламского эзотеризма, описанного в трудах Ибн Араби.
Современный мир так нуждается в объединяющем гуманитарном начале, которое Ибн Араби дает в своем учении, показывая единство внутреннего содержания всех мировых религий. Вот отрывок из его поэтического сборника «Тарджуман ал-ашуак» («Толкователь страстей»), понятный для многих как религия «сердца»:
«Мое сердце стало способным принять любую форму:
оно и пастбище для газелей, и монастырь для христианских монахов,
И храм для идолов, и Кааба для ходящих вокруг паломников, и скрижали Торы и свиток Корана.
Я исповедую религию любви, и, какой бы путь ни избрали верблюды любви, такова моя религия, моя вера» [6, c.127-128].
Подводя итоги данной работы, мы видим общие суфийские термины, символы, воспринятые татарскими последователями тариката Накшбандийа через трактаты Ибн Араби, ал-Газали – это «99 прекрасных имен Аллаха», «сердце», «зеркало сердца», «божественный свет», «наука букв», «совершенный человек» и многие другие. Рукописные списки знаменитых сочинений Ибн Араби были знакомы татарской просвещенной аудитории средних веков, и лишь наиболее продвинутые в «скрытых науках» могли приблизиться к понимаю всей глубины их содержания.
Список литературы Исторические сведения о влиянии Ибн-Араби на татарскую суфийскую средневековую культуру
- Абаева А. Учение Ибн ‘Араби в контексте истории суфизма //Межрелигиозный диалог и наследие Кожа Ахмета Ясави. Материалы международной научной конференции, посвященной 550-летию Казахского ханства, 13 февраля 2015 г., г. Астана / Составители: Муминов А.К., Сабери А., Липина Т.А. Серия «Религиоведческие исследования в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – Астана, Мастер По ЖШС, 2015. – С.156-159.
- Арберри А. Дж. Суфизм. Мистики ислама. Пер. с англ. — М.: Сфера, 2002. — 272 с.
- Ибн ал-Араби. Мекканские откровения (ал-Футухат ал-маккийя) / Перевод с араб., введ., прим. и биб-лиогр. А Д. Кныша. - Спб.: Центр «Петербургское востоковведение», 1995. - 288с.
- Ибн ал-Араби. Избранное. Т. 1 / Перевод с арабского, вводная статья и комментарии И. Р. Насырова. — М.: Языки славянской культуры: ООО «Садра», 2013. — 216 с.
- История татар с древнейших времен: в семи томах. – Том VI. Формирование татарской нации. XIX – начало XХ в. / Академия наук Татарстана, Институт истории им. Ш. Марджани. – Казань: Институт истории АН РТ, 2013. – 1172 с.
- Сеййид Хусейн Наср. Философы ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухра-варди, Ибн Араби / Перевод с английского, предисловие и комментарии Р. Псху. — М.: ООО «Садра», 2014. — 152 с.
- Смирнов А. В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). – М., 1993. – 327с.
- Фахретдин Р. Ибн Араби / Перевод со старотатарского литературного языка (тюрки), сноски и примечания: Рустам Гатин. - М.: Форум, 2019. – 240 с.
- Шейх Зейнулла Расули (Расулев) ан-Накшбанди. Избранные произведения / Пер. с араб. под редак-цией, с комментариями и примечаниями И.Р.Насырова. – Уфа; 2000. – 152 с.
- Algar H. Reflections of Ibn ‘Arabi in early Naqshbandî tradition //Journal of the Muhyiddin Ibn'Arabi Society. – 1991. – Т. 10. – С. 45-46.
- Chittick W. C. Ibn al-ʿArabī: The Doorway to an Intellectual Tradition //Journal of the Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society. – 2016. – Т. 59. – С. 1-15.
- Elmore G. Four Texts of Ibn al-∂ Arabon the Creative Self-Manifestation of the Divine Names // Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society. – 2001. Volume XXIX. – URL: https://ibnarabisociety.org/wp-content/up-loads/PDFs/Elmore_Four-texts-of-Ibn-Arabi.pdf
- Lory P. The Symbolism of Letters and Language in the Work of Ibn'Araby //JOURNAL-MUHYIDDIN IBN ARABI SOCIETY. – 1998. – Т. 23. – С. 32-42.
- Morris J. W. Ibn'Arabi's" Esotericism": The Problem of Spiritual Authority //Studia Islamica. – 1990. – №. 71. – С. 37-64.
- The Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society. – URL: https://ibnarabisociety.org/