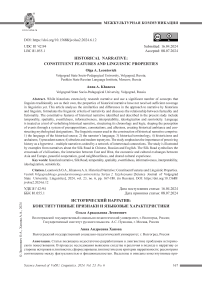Исторический нарратив: конститутивные признаки и языковые характеристики
Автор: Леонтович О.А., Ханова А.А.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 6 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена недостаточно разработанным в лингвистике проблемам исторического повествования. В процессе исследования выявлены сходства и различия в подходе к нарративу со стороны историков и лингвистов; сформулированы лингвистические критерии нарративности; рассмотрено соотношение между фактуальностью и фикциональностью. Выделены и описаны конститутивные признаки исторического нарратива: темпоральность, пространственность, событийность, информативность, интерпретативность, идеологизированность и семиотичность. Показано, что язык выступает средством вербализации исторического повествования, выстраивает его логику и хронологию, обусловливает восприятие событий через систему пресуппозиций, коннотаций и аллюзий. В качестве лингвистических средств создания исторического колорита могут выступать: 1) язык исторического источника; 2) язык нарратора; 3) историческая терминология; 4) историзмы и архаизмы; 5) прецедентные имена; 6) устаревшие и современные топонимы. Отмечена значимость восприятия истории как гипертекста - множественных нарративов, объединенных сетью интертекстуальных связей. В качестве иллюстративного материала исследования выступают нарративы о Великом шелковом пути на китайском, русском и английском языках. Определены универсальные и культурно-специфические особенности описания Великого шелкового пути как перекрестка цивилизаций, символа взаимоотношений между Востоком и Западом, добрососедства и общности культурного опыта.
Исторический нарратив, великий шелковый путь, темпоральность, пространственность, событийность, информативность, интерпретативность, идеологизированность, семиотичность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147506
IDR: 149147506 | УДК: 81’42:94 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.6.12
Текст научной статьи Исторический нарратив: конститутивные признаки и языковые характеристики
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ж ® М
DOI:
Многогранность и многоликость исторического нарратива, его информационная и семиотическая насыщенность делают его интереснейшим объектом для исследования. В исторической науке нарративу уделяется большое внимание, причем следует отметить, что ученые используют при его анализе значительное количество понятий, которые лингвисты традиционно считают своими (см., например, [Кукарцева, 2006] о лингвистическом повороте в историописании). При этом нам не известны собственно лингвистические комплексные исследования, посвященные историческому нарративу. Данная статья – попытка в какой-то мере восполнить этот пробел и предложить некоторые теоретические основания для рассмотрения исторического нарратива с точки зрения лингвистики.
Задачи статьи: а) выявить сходства и различия в подходе к нарративу со стороны историков и лингвистов; б) сформулировать и проанализировать конститутивные признаки нарратива, составляющие его сущность; в) выделить специфические языковые средства передачи исторического колорита в тексте.
В статье мы обратились к разноязычным нарративам о Великом шелковом пути, поскольку он занимает важное место в истории человечества, а реанимация этого прецедентного феномена в виде китайского проекта «Один пояс – один путь» и возникшие вокруг него политические дебаты помогают осмыслить его историческую преемственность, ди- намику и место в международных отношениях, а также рассмотреть его языковую реализацию в контексте разных лингвокультур.
Материал и методы
Истоки анализа исторического нарратива содержатся в трудах Ф. Анкерсмита [2003]. Р. Барта [2003], В. Дилтея [2004], А. Мегилла [2009], П. Рикёра [1998] и ряда других ученых. Исследование исторического нарратива затрагивает ряд значимых проблем, к которым относятся: «статус исторического знания, традиционно характеризуемого как эмпирическое, лишенное теоретичности и нарративное», в противовес объясняющему (аналитическому) [Мишалова, 2012, с. 158], соотношение исторического и литературного повествования, фактуальности и фикциональности [Анкерсмит, 2003; Мишалова, 2012; Стризое, 2012; Сыров, 2020; Barthes, 1981; Genette, 1993; Tlustý, 2017] и т. д. Е.В. Мишалова пишет о том, что в рамках современной философии существуют узкая и широкая трактовки понятия «исторический нарратив»: согласно первой, он определяется как описательноповествовательное произведение; согласно второй – как ментальная структура, способ «осознания и упорядочения окружающего мира в целом» [Мишалова, 2012, с. 160].
В центре дискуссий, как правило, оказывается вопрос о том, следует ли воспринимать исторический нарратив как достоверное научное знание или как художественное повествование, подобное литературному.
В частности, А.Л. Стризое оспаривает деление истории на эпистемологическую (объяснительно-фактологическую) и нарративную (объяснительно-интерпретационную и репрезентационную), утверждая, что исторический текст выступает как специфический способ преобразования информации из исторических источников в научное знание о прошлом, конституируя историю как науку [Стризое, 2012, c. 172–173].
Обращает на себя внимание то, что в контексте исторической науки внимание исследователей сосредоточено на восприятии нарратива историком, который может выступать либо адресантом (нарратором, сообщающим достоверную или недостоверную информацию), либо адресатом-интерпретатором. При этом, по мнению Е.В. Мишаловой, в качестве нарратива может рассматриваться как отдельное повествование, так и совокупность исторических текстов: хроники, летописи, документы, грамоты, конституции, исторические карты, культурные артефакты, воспринимаемые как сложные знаки или знаковые системы [Миша-лова, 2012, с. 161].
Представляется, что трактовка исторического нарратива с точки зрения лингвистики будет несколько отлична. Сразу оговорим, что в строгом лингвистическом понимании термин «нарратив повествовательного типа», предлагаемый В.Н. Сыровым [2020], тавтологичен, так как нарратив по определению не может быть неповествовательным. С другой стороны, нарративным является не любой исторический текст, а лишь тот, в котором присутствуют: повествователь / рассказчик; слушатель / читатель; персонажи; последовательность переживаемых ими событий; каузальные отношения между событиями; завершенность сюжета; отношение повествователя к тому, о чем идет речь [Leontovich, Simonenko, 2017].
Параметрическая модель нарративного анализа, сформулированная нами на основе классических трудов по нарратологии [Genette, Levonas, 1976; Jahn, 2005; и др.], включает следующие составляющие: нарратор; персонажи; тематика; жанр; время; пространство; события; сюжет; взаимоотношения между категориями; пресуппозиции, фоновые знания и интертекстуальные связи [Leontovich, Simonenko, 2017]. Учет широкого социаль- ного контекста и культурно-специфической информации представляется чрезвычайно важным, в связи с чем нельзя не согласиться с А.Л. Стризое, который считает «наиболее содержательным и глубоким» социокультурный нарратив, «затрагивающий нагруженные смыслом культурные традиции, мотивы поступков, экзистенциальные ценности человеческого бытия» [Стризое, 2012, с. 176].
Материал данного исследования включает 283 нарратива о Великом шелковом пути, из них 117 на китайском, 95 на русском и 71 на английском языках. Критерием отбора материала являлось эксплицитное упоминание Великого шелкового пути в нарративах либо аллюзия к нему, содержащаяся в контексте. При этом мы рассматриваем не только собственно исторические тексты, но и литературные произведения, основанные на исторических событиях, а также нарративные песни, пьесы, оперы, балет, картины и фильмы (документальные, художественные, мультипликационные). В процессе анализа мы не стремимся провести строгую разграничительную линию между историческим нарративом, содержащим точные факты, и художественным нарративом об историческом событии, поскольку нас интересуют культурно-специфические особенности повествования, позволяющие воссоздать отношение носителей и неносителей китайской культуры к Великому шелковому пути, его влияние на менталитет и национальное самосознание китайцев, роль в мировой истории и связь с современностью.
Результаты и обсуждение
Конститутивные признаки исторического нарратива
Проведенный нами анализ научных работ и практического материала позволяет выделить следующие конститутивные признаки исторического нарратива, выступающие в качестве его значимых совокупных характеристик: темпоральность, пространственность, событийность, информативность, интерпрета-тивность, идеологизированность и семиотич-ность 1. Рассмотрим их подробнее.
Темпоральность отражает привязку исторического нарратива к определенному периоду времени, обычно прошлому. В «Сти- листическом энциклопедическом словаре русского языка» [2011, с. 536] термин «тем-поральность» приравнивается к «текстовому времени» и обозначает категорию, которая связывает содержание текста с временной осью, где сюжет может соотноситься как с реальными историческими событиями, так и с толкованием автора.
-
З.Я . Тураева рассматривает темпораль-ность как сеть взаимосвязей между языковыми элементами, которые передают временн ы е отношения и объединены функциональной и семантической схожестью [Тураева, 1979, с. 163]. Согласно определению И.Р. Гальперина, темпоральность представляет собой общетекстовую категорию, охватывающую категории континуума, проспекции и ретроспекции [Гальперин, 1981, с. 43].
Формулируя суть принципа историзма, А.Л. Стризое указывает на то, что историческое повествование характеризует сменяющие друг друга во времени состояния общества, хронологические этапы, которые впоследствии приобретают содержательно-смысловую наполненность [Стризое, 2012, с. 174]. При этом, полагает он, процессы исторической действительности не вписываются в классическую триаду «прошлое – настоящее – будущее», поскольку варьируются их количество и последовательность, синхронность и асинхронность их протекания [Стризое, 2012, с. 175–176].
Лингвистический анализ темпораль-ности в нарративах нацелен на выявление в тексте маркеров, помогающих описать и систематизировать хронотопное строение повествования. В качестве одного из таких маркеров выступает указание на год или временной период. Существенным межкультурным различием между европейскими государствами и Китаем является периодизация истории. В России и англоговорящих странах она обычно осуществляется путем отнесения исторического события к какому-либо веку, напр.:
В Китае она соотносится с периодом правления династий, как в нижеприведенном примере:
-
(3) 自兩漢以來,軍隊、使節、商隊、僧 侶、詩人,不斷過往蘭州,渡過黃河,西去東 來,不知有過多少腳步在這裡駐足? ( 百度百科 ) / Во время династии Хань войска, дипломатические представители, караваны, монахи, поэты, непрерывно проходили через Ланьчжоу, переплывали Хуанхэ. С востока шли на запад. Не знаю, сколько караванов здесь останавливалось 3.
Ведущими языковыми средствами выражения темпоральности в русском и английском языках являются видовременные формы глаголов и причастий, а также наречия и существительные с темпоральной семантикой:
-
(4) По Шелковому пути передвигались караваны: в них объединялись группы торговцев, они собирались вместе, чтобы легче было преодолеть трудности в дороге. Для перевозки товаров использовали верблюдов и ослов. Преодолеть этот долгий путь можно было за шесть месяцев , а иной раз путешествие затягивалось на годы (ЯКласс);
-
(5) In the 13th and 14th centuries the route was revived under the Mongols, and at that time the Venetian Marco Polo used it to travel to China (Britannica.com) / В XIII и XIV веках во время монгольского правления маршрут был возрожден при монголх, и именно тогда венецианец Марко Поло использовал его для путешествия в Китай.
В глагольной системе китайского языка, в отличие от русского и английского, отсутствует грамматическая категория времени; темпоральное значение передается с помощью временных глагольных суффиксов: 着 , выражающего длящееся состояние; 了 – показателя совершенного вида; 过 , в подавляющем большинстве случаев относящегося к прошедшему времени; а также временных наречий и существительных, например: 现在 ( xiànzài ) сейчас; 过去 ( guòqu ) раньше; 以前 ( yǐqián ) в прошлом; 曾经 ( céngjīng ) когда-то, однажды; 公元前 ( gōngyuánqián ) до нашей эры; 那时候 ( nà shíhou ) в то время, тогда; 古代 ( gǔdài ) древняя эпоха, древность; 未来公元 ( gōngyuán ) наша эра; 未来 ( wèilái ) в будущем и т. д.
Время в историческом нарративе представляется как динамичное и вариативное, подверженное изменениям. Как утверждает Х. Уайт, исторический дискурс, как правило, нацелен «на конструирование правдоподобного повествования о серии событий, а не на статическое описание положения дел» [Уайт, 2002, с. 13].
Относительность времени порождает философские вопросы, непосредственно относящиеся и к лингвистическому аспекту нарратива: где кончается прошлое и начинается настоящее? Насколько далеко надо уйти в прошлое, чтобы нарратив считался историческим? Рассматривается ли он как нечто отдельное от современной действительности или в проекции на настоящее?
Пытаясь частично ответить на эти вопросы, отметим, что значимыми для лингвистических исследований являются понятия прецедентности, аллюзийности и интертекстуальности, отражающие связь исторических нарративов с современностью. Так, сегодня китайцы разрабатывают концепцию новой межконтинентальной транспортной системы, обозначаемой как «Новый Шелковый путь». Идея проекта под названием «Один пояс ‒ один путь» ( 一带一路 ) была провозглашена в 2010 году. 7 сентября 2013 г. китайский руководитель Си Цзиньпин выдвинул инициативу создания «Экономического пояса Шелкового пути» ( 丝绸之路经济带 ), а чуть позднее ‒ «Морского Шелкового пути XXI века» ( 海上 丝路 ) [Ханова, 2019, с. 180].
Сегодня использование аллюзий к Великому шелковому пути также широко распространено в туристической и других отраслях. Например, в Самарканде существует большой пятизвездочный отель Silk Road by Minyoun , который позиционируется как посвященный истории Шелкового пути. В России с 2009 г. проводится ралли-рейд «Шелковый путь». В разных странах (например, России, Кыргызстане, Казахстане) выпускаются памятные монеты «Великий шелковый путь» и т. д.
Источником негативной коннотации стало использование наименования Silk Road для обозначения анонимной торговой интернет-площадки для нелегальных товаров, функционировавшей с 2010 по 2013 годы. Ее владелец был арестован ФБР в Сан-Франциско и приго- ворен к пожизненному заключению. По мотивам этой истории в США был снят фильм Silk Road, вышедший в прокат в 2020 году.
Таким образом, темпоральность конституирует нарратив, определяя его историческую отнесенность, указывая на последовательность событий и обеспечивая связь времен.
Пространственность исторического нарратива как его следующий конститутивный признак обозначает разворачивание его в определенном географическом пространстве, выступающем как среда, в которой события происходят параллельно и связаны между собой определенными отношениями. Неразрывная связь между временем и пространством позволила М.М. Бахтину разработать теорию хронотопа, отражающего взаимодействие и взаимозависимость временных и пространственных отношений, освоенных литературными средствами [Бахтин, 1975].
Наиболее заметными маркерами пространства в исторических нарративах являются топонимы, как в следующем примере, где с их помощью создается образ Великого шелкового пути, соединяющего между собой многочисленные города и страны:
-
(6) Из Индии тянулись караваны слонов с драгоценными вещами из храмов и дворцов Пенджаба и Делийского султаната. Из Дамаска , Багдада , Анатолии , Ормузда , с Кавказа доставлялись строительные материалы и сокровища, захваченные победителями. Вокруг Самарканда выросли поселения, названные в честь крупных городов мира, – Багдад, Дамаск, Каир, Шираз , был даже Париж , позднее ставший Фаришем (Докашева, с. 96).
В книге П. Франкопана «Шелковый путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий» с помощью топонимов рассказывается о стремлении Тамерлана создать великую империю, поражающую своей красотой и величием:
-
(7) Forging a great empire across the Mongol lands stretching from Asia Minor to the Himalayas from the 1360s onwards, Timur embarked on an ambitious programme to construct mosques and royal buildings across his realm, in cities such as Samarkand , Herat and Mashad (Frankopan, p. 188) / С 60-х годов XIV века, создавая великую империю на монгольских землях, простиравшихся от Малой Азии до Гималаев, Тимур приступил к осуществлению амбициозной программы строительства
мечетей и королевских зданий по всему своему царству, в таких городах, как Самарканд, Герат и Мешхед.
По линии пространственных отношений осуществляется цивилизационное противопоставление Востока и Запада. Именно на этой оппозиции построено стихотворение М.В. Чекиной «Великий шелковый путь» (Чекина):
-
(8) Восток и Запад – утро и закат – / В контрастах поделили б части света, / Когда бы был Восток не столь богат, / А Запад бы не зарился на это.
В противопоставлении Востока и Запада отражается диалектический принцип единства и борьбы противоположностей:
-
(9) «Старый» Шелковый путь имел глобальное значение, и главной его особенностью было соединение древних, могущественных цивилизаций Востока и Запада. Он служил важным связующим звеном в обмене товарами и распространении достижений цивилизаций, средством коммуникации между многочисленными народами. С его помощью культуры и цивилизации Запада и Востока получили возможность развития в процессе тесного взаимодействия и взаимообо-гащения (Радкевич).
Событийность. В. Шмид считает событие стержнем повествовательного текста [Шмид, 2003, с. 14], Опираясь на определение Ю.М. Лотмана, согласно которому событие есть «перемещение персонажа через границу семантического поля» [Лотман 1970, с. 282], он отмечает, что эта граница может быть как топографической, так и прагматической, этической, психологической или познавательной [Шмид, 2003].
В.И. Тюпа справедливо указывает на то, что трактовка события в контексте нарратоло-гии осложнена стремлением свести к единому знаменателю разноплановые явления: с одной стороны, коммуникативную событийность дискурсивного процесса, с другой – «референтную событийность процесса исторического (или квазиисторического, “фикционально-го” в области художественной литературы)», что, с его точки зрения, «оказывается весьма произвольной исследовательской операцией» [Тюпа, 2001], поскольку «событие неотделимо от его пристрастной интерпретации в качестве значимого (для кого-то) деяния или происшествия» [Тюпа, 2001].
Динамичность истории как процесса развития природы и общества согласуется с традиционным для лингвистики определением события через понятие изменения природной или социальной реальности [Шабес, 1989; Vendler, 1967]. При этом события, как правило, выстраиваются в нарративе не стихийно, а в определенной логической последовательность, которая становится результатом сознательной манипуляции со стороны повествователя для установления причинно-следственных и иных логических связей [Леонтович, Симоненко, 2019, с. 31].
Можно говорить и о «телескопическом» восприятии – включении события во все более широкий круг исторических процессов, позволяющий на каждом этапе видеть его как все более мелкую часть широкой исторической картины. Рассмотрим следующий пример:
-
(10) 在唐代有一件不能忘却的事情就是造纸 术的传播。公元 751 年唐与波斯在塔缤斯河展开了 一场会战。唐军大败,只好后退。在被送往撒马 尔汗的战俘中有一名造纸工匠。这名造纸工传播 了了造纸术。 ( 陆上丝绸之路 ) / Важное событие, которое произошло в эпоху династии Тан, ‒ развитие техники изготовления бумаги. В 751 г. н. э. династия Тан и Персия начали битву на реке Таллас. Танская армия потерпела поражение, и ей пришлось отступить. Среди военнопленных, отправленных в Самарканд, был один известный мастер «бумажного дела». Этот мастер распространил технологию изготовления бумаги.
Взятие в плен бумажных дел мастера может трактоваться как происшествие местного значения; как международное событие, следствием которого стало развитие бумажного производства в Самарканде; как часть мировой истории благодаря последующему проникновению бумаги в Европу и другие части света; как источник глобальных политических и экономических процессов (книгопечатания, распространения грамотности, становления литературных языков, документооборота, развития СМИ и т. д.).
Информативность также относится к неотъемлемым характеристикам исторического нарратива. А.Э. Бабайлова определяет информативность текста как степень его смысло-содержательной новизны для читателя, которая заключена в теме и авторской концепции, системе авторских оценок предмета мысли» [Бабайлова, 1987, c. 60]. Н. С. Валгина разграничивает информационную насыщенность текста как абсолютный показатель его качества и информативность как показатель относительный, поскольку, с ее точки зрения, степень информативности сообщения зависит от потенциального читателя. Она указывает на такие свойства текста, как его избыточная и свернутая информативность, а также асимметричность объема информации, выраженного вербальными средствами, и всего объема информации, заложенного в тексте, с учетом закономерностей его построения, имплицит-ности, объема фоновых знаний читателя и т. д. [Валгина, 2003]. Таким образом, степень информативности исторического нарратива будет зависеть не только от компетентности адресанта (нарратора), но и адресата (читателя / слушателя / зрителя): она будет различной для «усредненного» и «искушенного» адресата (к числу последних будут относиться профессионалы-историки).
Размышляя об информативности, невозможно обойти стороной вопрос о соотношении правды и вымысла, правдивой информации и дезинформации. Ф. Анкерсмит полагает, что нарративизм «принимает то, что несомненно в прошлом. Именно то, что несомненно, является историческим фактом» [Анкерсмит]. Однако как определить, что в прошлом, особенно отделенном от современности веками, «несомненно»?
Р. Барт, Ж. Женетт и другие авторы утверждают, что нарратология не в состоянии в достаточной степени разрешить вопрос о различной природе фикционального и фактуаль-ного нарратива (см., например: [Barthes, 1981; Genette, 1993]). Фикциональность не может быть выведена из семантических или синтаксических характеристик текста – она может анализироваться только на уровне прагматики. Читатель получает инструкции, как воспринимать текст – как содержащий фактуальную или фикциональную информацию – только из паратекстовых элементов: подзаголовка, предисловия, аннотации, послесловия и т. д. [Tlustý, 2017].
Историки, философы, социологи пытаются сформулировать критерии фактуально-сти исторических нарративов. В частности, А.Л. Стризое пишет о необходимости поиска
О.А. Леонтович, А.А. Ханова. Исторический нарратив инвариантов исторического описания прошлого в разных исторических текстах [Стризое, 2012, c. 174]. Д. Кон усматривает отличие исторического текста от фикционального в том, что первый, в отличие от второго, соотнесен с реальной жизнью. В частности, она утверждает, что в историческом тексте не может быть внутреннего монолога исторического персонажа, поскольку другой человек не имеет к нему доступа [Cohn, 1999].
С одной стороны, нельзя не согласиться с авторами, настаивающими на разграничении фактуальности и фикциональности. С другой – возможен ли исторический нарратив, особенно о событиях далекого прошлого, основанный на «голых» фактах, не содержащий домыслов, интерпретаций и не претерпевший изменений в ходе многочисленных пересказов в разные исторические эпохи?
С точки зрения лингвистического описания жанры исторических нарративов о Великом шелковом пути могут рассматриваться как обладающие разной степенью фактуаль-ности/ фикциональности: научный исторический нарратив, опирающийся на строгие факты; фикциональный текст, автор которого проделал большую работу в архивах, чтобы с достаточной точностью воспроизвести исторический контекст; текст, лишь аллюзийно относящийся к исторической эпохе, в которой автор дает волю своему воображению. К числу последних может быть отнесен один из классических китайских романов «Путешествие на Запад», повествующий о путешествии знаменитого буддийского монаха и философа Сюаньцзана по Великому шелковому пути в Индию. Главный персонаж романа – спутник Сюаньцзана, царь обезьян Сунь Укун. Другие действующие лица – комический получеловек-полусвинья Чжу Бацзе, монах Ша Сэн и белый конь-дракон, который раньше был принцем.
Среди многообразия жанров исторического нарратива можно выделить центр и периферию с точки зрения исторической достоверности: центр формируется воспоминаниями очевидцев, мемуарами, летописями, периферия – историческими романами, спектаклями, фильмами / сериалами и т. д.
Возвращаясь к информативности, вспомним, что Т.М. Дридзе [2009] определяет ее как как прагматическую, а, следовательно,
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ относительную характеристику текста, уже на стадии анализа вводящую его в систему связей с множеством предполагаемых интерпретаторов. Это выводит нас на следующий конститутивный признак исторического нарратива.
Интерпретативность. «Интерпретация – это не перевод, – пишет Ф. Анкерс-мит. – Прошлое – это не текст, который должен быть переведен в нарратив историографии; прошлое должно быть интерпретировано» [Анкерсмит]. Он считает выбор интерпретации, способ видения прошлого самым интересным интеллектуальным вызовом историку, поскольку условием существования нарративного пространства является лишь сопоставление конкурирующих интерпретаций [Анкерсмит]. Эта точка зрения часто критикуется историками как постмодернисткая, согласно ей нет каких бы то ни было текстов или прошлого – есть лишь их интерпретации [Анкерсмит, 2003, с. 316]. Как мы уже указывали ранее, А.Л. Стризое возражает против разделения истории на эпистемологическую (объяснительно-фактологическую) и нарративную (объяснительно-интерпретационную и репрезентационную) и пишет, что хотя автор и читатель имеют право на мировоззренческую и методологическую свободу, необходимо наличие некоего дисциплинирующего мысль и воображение единства приемов и процедур упорядочения и представления фактов, которые бы обеспечивали объективность, верифицируемость и фальсифицируемость исторического знания [Стризое, 2012].
Интерпретация как личностная обработка информации завязана на такие понятия, как системность, логичность либо хаотичность и случайность самих исторических событий (вспомним рассуждения Л.Н. Толстого о Наполеоне в «Войне и мире»), а также их нарра-тивизация. Причины субъективного изложения и искажения исторических фактов могут быть различны: нарушения воспоминаний, художественный замысел, воображение автора, желание представить собственную роль в событиях в приукрашенном виде, идеологическая позиция и т. д.
Интерпретативность ярко проявляется в трактовке исторического значения Великого шелкового пути в зависимости от авторской интенции. Например, на сайте российской туристической группы Dolores, желающей привлечь внимание клиентов к азиатским достопримечательностям, дается высокая оценка его историческому значению:
-
(11) Замечательное наследие прошлого, известное сейчас как Великий Шелковый Путь является одним из наиболее грандиозных достижений Древнего Востока. Это, прежде всего памятник пытливости человеческого ума, предприимчивости, неутолимой жажды новых знаний и желанию всегда идти вперед. Человеческая цивилизация не знает иного пути, соединяющего Китай и Западную Европу кроме этой транс евразийской системы маршрутов. На самом деле он служил каналом, через который беспрецедентное число государств обменивалось своими изделиями, культурными, художественными достижениями и самыми революционными идеями своего времени 4.
Совсем иная – отрицательная – оценка Великого шелкового пути просматривается в следующем комментарии американского автора, пытающегося продемонстрировать связь исторических событий с современной политикой КНР, которая вступает в противоречие с интересами США:
-
(12) China’s official announcements emphasize the positive connotations of the Silk Road; historically, no conquests, no wars, and no imperialism took place on the Silk Road—at least as most people imagine to be the case. <…> There is good reason to be suspicious. <…> Historically, the Silk Road was not just about trade, cultural exchange, and tolerance (Hanson) / Официальные заявления Китая подчеркивают позитивный подтекст Великого шелкового пути; исторически на Великом шелковом пути не было ни завоеваний, ни войн, ни империализма – по крайней мере, так считает большинство людей. <...> Есть веские основания для подозрений. <...> Исторически Великий Шелковый путь был связан не только с торговлей, культурным обменом и терпимостью.
Далее автор перечисляет многочисленные негативные аспекты исторических событий: военные столкновения, жестокость китайских правителей, угнетение жителей завоеванных территорий, поражения китайской армии и т. д. В этих интерпретациях отражаются разные позиции нарраторов, что позволяет нам выделить идеологизированность как еще один конститутивный признак исторического нарратива.
Идеологизированность. Точку зрения нарратора историки называют «перспективой», «временнóй перспективой», «познавательной позицией», «познавательным горизонтом» (см., например: [Мишалова, 2012, с. 170]). Она складывается из совокупности индивидуального и коллективного восприятия – то есть автор исторического нарратива не является индивидуумом в чистом виде. В принципе данное положение можно отнести и к другим типам нарративов, но в историческом оно проявляется особенно ярко. Автор, совмещая индивидуальное и коллективное, не может быть абсолютно свободным; объективность историка – это в известной степени иллюзия. Как пишет Е.В. Мишалова, здесь мы имеем дело с невозможностью элиминации нарратора, «субъекта познания» [Мишалова, 2012, с. 172].
Идеологизированность четко просматривается в оценке китайской инициативы «Один пояс – один путь», который мы, несмотря на его современность, рассматриваем в рамках настоящего исследования как историческое явление. Так, в речи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на церемонии открытия форума по международному сотрудничеству от 18 октября 2023 г. говорится:
-
(13) 10 年来,我们坚守初心、携手同行,推 动 “ 一带一路 ” 国际合作从无到有,蓬勃发展,取得 丰硕成果。 <…> 本着对历史、对人民、对世界负 责的态度,携手应对各种全球性风险和挑战,为 子孙后代创造和平、发展、合作、共赢的美好未 来。 ( 习近平 ...) / В последние 10 лет мы придерживались нашего первоначального намерения и шли рука об руку, продвигая программу международного сотрудничества «Один пояс – один путь» с нуля, процветая и добиваясь плодотворных результатов. <...> Ответственно относясь к истории, людям и миру, мы будем работать вместе, чтобы справиться с глобальными рисками и вызовами и создать лучшее будущее мира, развития, сотрудничества и беспроигрышной ситуации для всех.
Американцы, со своей стороны, усматривают в этой инициативе угрозу доминирующей позиции США в мире:
-
(14) <...> The BRI, despite Chinese rhetoric to the contrary, is part of a wide-ranging effort by the Chinese government to undermine the many interests of the United States and its allies and partners who stand in the way of China’s determined
international ascendance... (Khayat) / Инициатива «Один пояс, один путь» (BRI), несмотря на то, что Китай утверждает противоположное, является частью широкомасштабных усилий китайского правительства, направленных на подрыв многочисленных интересов США, их союзников и партнеров, которые препятствуют решительному международному восхождению Китая...
В данном случае нарраторы не пытаются сохранить видимость объективности. Политическая ангажированность, взаимоотношения между государствами, личные идейные убеждения повествователя, адресованность определенной целевой аудитории – все это обусловливает аксиологичность и тональность изложения, вследствие чего исторические нарративы редко бывают идеологически нейтральными.
Семиотичность. Исторический нарратив одновременно выступает как знак прошлого и знаковая система [Мишалова, 2012, с. 161]. Хотя прошлое не поддается непосредственному наблюдению, оно семиотизируется через исторический нарратив и оставляет в настоящем свои следы, предстающие как знаки иного бытия, отделенного от настоящего, но воспринимаемого при этом в заданной им перспективе [Успенский, 1996, c. 21].
Размышляя о связи семиотики с мифологизацией истории, Р. Барт пишет, что «потребитель мифа принимает значение за систему фактов: миф воспринимается как система фактов, будучи на самом деле семиологиче-ской системой» [Барт, 2003]. Оттолкнувшись от этой идеи, Ю.В. Шатин приходит к выводу, что воздействие семиотики на исторический нарратив понизило его значение как источника достоверной информации, но при этом связало его с литературным творчеством, «сделав объектом поэтики и риторики» [Шатин, 2002]. В историческом нарративе, пишет он, также происходит трансформация культурного мифа в идеологический [Шатин, 2002].
Можно утверждать, что любое повествование знаково, однако в историческом нарративе знаки эпохи, политики, власти и т. д. приобретают особый смысл. Великий шелковый путь выступает как символ перекрестка цивилизаций, взаимодействия Запада и Востока, экономических и культурных обменов между Азией и Европой, мирного сотрудничества, добрососедства и общности культурного опыта.
Важным символом Великого шелкового пути, отразившемся в его названии, является шёлк, ассоциирующийся с высоким жизненным уровнем, ритуалом, художественной ценностью, коммерческой деятельностью и цивилизационным ростом. За историческими событиями также закрепляются изобразительные, музыкальные и прочие знаки, такие как архитектура, одежда, оружие и артефакты соответствующей эпохи. Самый часто используемый визуальный символ Великого шелкового пути, встречающийся как в китайской, так и иных культурах, – караван верблюдов, идущих по пустыне.
Язык исторических нарративов
Язык выступает средством вербализации исторического нарратива, упорядочивает мысли, выстраивает хронологию и логику повествования, обусловливает восприятие событий через систему пресуппозиций, коннотаций, аллюзий – одним словом, придает смысл историческому повествованию. С лингвистической точки зрения средствами создания исторического колорита могут выступать: 1) язык исторического источника (например, вэньян); 2) язык нарратора, который может совпадать или не совпадать с языком источника (в данном исследовании представлены нарративы о Великом шелковом пути на китайском, русском и английском языках); 3) историческая терминология – старая и современная – которая может выступать, с одной стороны, как язык науки, а с другой – давать историческую оценку событиям (одно и то же событие может трактоваться как победа, завоевание или порабощение); 4) историзмы и архаизмы: 胡虏 ‒ Ху лу (древний кочевой народ), 吴 ‒ усский меч (род мечей с изогнутым лезвием), 匈奴‒ хунну, сюнну, гунны (кочевой народ, проживавший у границ Китая в эпоху Хань), 细柳营 ‒ укрепленный лагерь в Силю (во времена династии Хань); 5) прецедентные имена, например: 汉武帝 ‒ У-ди (император); 成吉思汗 ‒ Чингисхан (основатель Монгольской империи); 帖木兒 (铁木尔) ‒ Тамерлан, или Тимур (тюркский полководец и завоеватель); 马可波罗‒ Марко Поло (европейский путешественник); 6) устаревшие топонимы: 楼兰 ‒ царство Лоулань; 赛里斯 ‒ Серес (название Китая в эпоху Римской империи); 高 昌 ‒ Гаочан (китайское название государства Турфан) и т. д. «Безучастное», беспристрастное, обезличенное повествование противопоставляется эмоционально-оценочному, создаваемому с помощью коннотативно окрашенных слов, словосочетаний, фразеологизмов (например, китайских чэньюев), цитат и стилистических приемов.
Язык служит средством конструирования мифологизированных номинаций, таких как народ , государство , правители и т. д. К ним можно отнести и само название Великий шелковый путь ( 丝绸之路 ). Оно было введено в научный оборот лишь в конце XIX в. немецким исследователем Ф. Рихтгофеном в его труде «Китай. Результаты собственных путешествий» [Richthofen, 1907]. Однако китайские ученые отмечают, что еще венецианский купец и путешественник Марко Поло в «Книге о разнообразии мира» назвал данный путь «шелковым», поскольку самым востребованным товаром на всем его протяжении был шелк, который к тому же идеально подходил для перевозок на дальние расстояния из-за своей легкости и дороговизны [Ван Дон Мей, 2004]. В рассмотренных нами нарративах упоминается греческое название Китая ‒ Seres , означавшее «шелковый» или «страна шелка», в связи с чем китайцев называли «шелковый народ». Обратим внимание на то, что процесс мифологизации четко прослеживается и в наименованиях современных проектов «Экономический пояс шелкового пути» ( 丝绸之路经济带 ) и «Морской шелковый путь» ( 海上丝路 ), которые связаны с шелком лишь исторически.
Выводы
Результаты проведенного анализа показывают, что основные различия между подходами к нарративу в контексте исторической науки и лингвистики заключаются в следующем: во-первых, в исторических изысканиях внимание сосредоточено на историке как адресанте и адресате исторического нарратива, в то время как лингвистику интересуют множественные нарраторы и реципиенты исторического повествования; во-вторых, историки ищут в нарративе достоверные исторические сведения, в то время как внимание лингвистов в большей степени сосредоточено на культурно-языковых особенностях повествования, позволяющих воссоздать менталитет и национальное самосознание исследуемого языкового сообщества, его динамику и связь с современностью. Язык трактуется как средство вербализации исторического нарратива, выстраивает хронологию и логику повествования, обусловливает восприятие событий через систему пресуппозиций, коннотаций и аллюзий, служит средством создания исторического колорита, а также конструирования мифологизированных номинаций.
Выведенные в статье конститутивные признаки исторического нарратива (темпо-ральность, пространственность, событийность, информативность, интерпретативность, идеологизированность и семиотичность) могут послужить основой его дальнейшего детального лингвистического анализа. Важным при этом представляется восприятие истории как гипертекста – множественных нарративов, объединенных сетью интертекстуальных связей.
Список литературы Исторический нарратив: конститутивные признаки и языковые характеристики
- Анкерсмит Ф., 2003. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М.: Идея-Пресс. 360 с.
- Анкерсмит Ф. Шесть тезисов нарративной философии истории. URL: https://abuss.narod.ru/study/phh/ph_hist_anker_narr.htm
- Бабайлова А. Э., 1987. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку: Социопсихолингвистические аспекты. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 151 с.
- Барт Р., 2003. Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Изд-во им. Сабашниковых. С. 427–441.
- Бахтин М. М., 1975. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит. С. 234–407.
- Валгина Н. С., 2003. Теория текста. М.: Логос. 173 с.
- Ван Дон Мэй, 2004. Великий Шелковый путь в истории китайской музыкальной культуры: дис… канд. искусствоведения. СПб. 154 с.
- Гальперин И. Р., 1981. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука. 139 с.
- Дильтей В., 2004. Построение исторического мира в науках о духе. М.: Три квадрата. 414 с.
- Дридзе Т. М., 2009. Язык и социальная психология. М.: ЛИБРОКОМ. 240 с.
- Кукарцева М. А., 2006. Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и основные принципы // Вопросы философии. № 4. С. 44–55.
- Леонтович О. А., Симоненко Н. Ю., 2019. Нарративный анализ как ключевой метод исследования китайских повествовательных жанров // Китайский нарратив как средство осмысления реальности: коллектив. моногр. / науч. ред. О. А. Леонтович, Нин Хуайин. Волгоград: Перемена. С. 23–42.
- Лотман Ю. М., 1970. Структура художественного текста. М.: Искусство. 387 с.
- Мегилл А., 2009. Историческая эпистемология: науч. моногр. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 480 с.
- Мишалова Е. В., 2012. Исторический нарратив как форма организации и репрезентации исторического знания // Эпистемология & философия науки. Т. 31, № 1. С. 157–173.
- Рикер П., 1998. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М. ; СПб.: Унив. кн. 313 с.
- Стилистический энциклопедический словарь русского языка, 2011 / под ред. М. Н. Кожиной. 2-е изд., стер. М.: Флинта: Наука. 696 с.
- Стризое А. Л., 2012. Исторический текст как научный нарратив // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. № 2. С. 172–177. DOI: http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu4.2012.2.26
- Сыров В. Н., 2020. Нарратив в историческом познании: о перспективах использования нарратологии // Философия. Журнал Высшей школы экономики. Т. 4, № 3. С. 113–115. DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-113-135
- Тураева З. Я., 1979. Категория времени. Время грамматическое и время художественное (на материале англ. яз.). М.: Высш. шк. 219 с.
- Тюпа В. И., 2001. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса: («Архиерей» А.П. Чехова). Тверь: Твер. гос. ун-т. 58 с.
- Уайт X., 2002. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 528 с.
- Успенский Б. А., 1996. История и семиотика // Избранные труды. В 3 т. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Яз. рус. культуры. С. 9–49.
- Ханова А. А., 2019. Нарративы о Великом шелковом пути // Китайский нарратив как средство осмысления реальности: коллектив. моногр. / науч. ред. О. А. Леонтович, Нин Хуайин. Волгоград: Перемена. С. 175–207.
- Шабес В. Я., 1989. Событие и текст. М.: Высш. шк. 175 с.
- Шатин Ю. В., 2002. Исторический нарратив и мифология ХХ столетия // Критика и семиотика. № 5. С. 100–108. DOI: 10.12731/2077-1770-2022-14-3-14-47
- Шмид В., 2003. Нарратология. М.: Яз. слав. культуры. 312 с.
- Barthes R., 1981. The Discourse of History // Comparative Criticism. Vol. 3. P. 7–20.
- Cohn D., 1999. The Distinction of Fiction. Baltimore: John Hopkins University Press. 208 p.
- Genette G., 1993. Fiction and Diction. Ithaca: Cornell University Press. 155 p.
- Genette G., Levonas A., 1976. Boundaries of Narrative // New Literary History. Vol. 8, № 1. P. 1–13.
- Jahn M., 2005. Narratology: A Guide to the Theory of Narrative. Cologne: University of Cologne. URL: http://www.uni-koeln.de/
- Leontovich O.A., Simonenko N.Yu., 2017. Chinese Narrative Song: Structure, Language and Historical Dynamics // Russian Journal of Linguistics. Vol. 21, № 4. P. 789–804. DOI: 10.22363/2312-9182-2017-21-4-789-804
- Richthofen F., 1907. Tagebücher aus China. Ausgewählt und herausgegeben von E. Tiessen. 2 Bände. Berlin: Reimer 1907. 588 S.
- Tlustý J., 2017. Narratives Between History and Fiction // Revue belge de Philologie et d’Histoire. Vol. 95, № 3. P. 549–560.
- Vendler Z., 1967. Linguistics in Philosophy. Ithaca: Cornell University Press. 203 p.