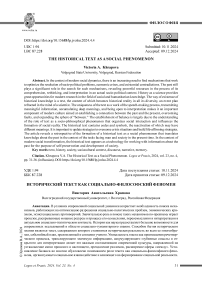Исторический текст как социально-философский феномен
Автор: Храпова В.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В условиях современной социальной динамики возрастает необходимость поиска механизмов, работающих на оптимизацию разрешения социально-политических проблем, экономических кризисов, экзистенциальных противоречий. Значительную роль в поиске таких механизмов по-прежнему играет прошлое, раскрывающее мощные ресурсы в процессе его осмысления, переосмысления и интерпретации в актуальном социально-политическом контексте. История как наука предоставляет большие возможности для современных исследований в области социально-гуманитарного знания. Способом бытия исторического знания является текст, содержанием которого становится историческая реальность во всем ее многообразии, событийный план, преломленный в сознании ученого. Уникальность текста как произведения речетворческого процесса, транслирующего значимую информацию, аккумулирующего глубинные смыслы и открытого для интерпретации делает его важным составляющим современной культуры, направленной на установление связи прошлого и настоящего, преодоление разломов, расширение сферы «между». Установление баланса во многом обусловлено пониманием роли текста как социально-философского феномена, организующего социальное взаимодействие и влияющего на формирование социальной реальности. Исторический текст несет в себе коды и символы, реактивация которых может иметь разное значение. Важно актуализировать смыслы и ценности, позволяющие преодолевать кризисные ситуации, выстраивать жизнеутверждающие стратегии. В статье раскрывается ретроспектива становления исторического текста как социального феномена, транслирующего знание о прошлом в контексте задач, которые стоят перед человеком и обществом в настоящем времени. В условиях современной социальной трансформации исторический текст предстает как технология работы с информацией о прошлом в целях самосохранения и развития общества.
Текст, история, общество, социкультурный контекст, дискурс, нарратив, память
Короткий адрес: https://sciup.org/149147300
IDR: 149147300 | УДК: 1:94 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.4.4
Текст научной статьи Исторический текст как социально-философский феномен
DOI:
Цитирование. Храпова В. А. Исторический текст как социально-философский феномен // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 4. – С. 31–36. – DOI:
Фундаментальные отрасли знания, традиционно служившие базой источников-доминант, определяющих картину мира, в современном социокультурном пространстве утрачивают этот статус. Дефицит знания, способного обосновывать возможности комфортного существования человека и общества в период глобальных трансформаций, стимулирует значительные преобразования в системе науки. Эти преобразования связаны с расширением категориального аппарата, изменением методологии, использованием нетрадиционных исследовательских программ. Успешность подобных стратегий во многом определяется способностью изменять ракурс рассмотрения проблем, контекст исследования, привлекая новейшие достижения из смежных областей.
Несмотря на то что история как научная дисциплина, аккумулирующая социальнозначимый опыт, призванный определять социокультурные ориентиры, программы взаимодействия, направленность перспектив развития, уступает свое место творцам настоящего – политологам, социологам, юристам, экономистам, рост массового интереса к прошлому неуклонно растет. Историческое присутствует как обязательный фон, конституируя опорные пункты в массовом сознании, определяя работу механизмов идентификации и легитимации (объяснения, оправдания) событий и явлений.
История стала результатом эволюции человека и преобразуемой им природы. Скачок из простого существования, как заметил К. Ясперс, «характеризуется сознанием и воспоминанием; рационализацией какого-либо значения и содержания посредством техники; наличием в качестве примера и образца людей, чьи дела, свершения и судьбы постоянно стоят перед мысленным взором их потомков» [Ясперс 1991, 72]. В своем стремлении зафиксировать значимые события, объяснить динамику человеческого бытия историк становится мыслителем, теоретические и практические начала включаются в духовный процесс. В этом процессе жизненный материал воздействует на сознание, а сознание преобразует жизненный материал. Сама история предстает при этом как становящееся понимание, результатом которого оказываются исторические тексты, организующие пространство коммуникации в настоящем по поводу прошлого с целью организации будущего.
История реализуется в нарративе – синтаксической конструкции, фиксирующей специфику организации мысли, представляющей логику события. Нарратив истории аккумулирует в себе социально значимое, запоминающееся, выделившееся из повседневного жизненного мира: «историографическим материалом может стать лишь то, что своим особым способом имеет миро-исторический характер» [Хайдеггер 2003, 440]. Систематизация значимого опыта зависит от преобладающего в обществе канала связи, способа трансляции социально-значимой информации, технологии коммуникации, организующей социальное пространство.
Одна из первых форм представления исторического знания – устное предание. Озвученная история актуализировала значимые события в настоящем. Историками, изучающими устную традицию, эпос трактуется как праздник присутствия прошлого в настоящем. Метафоричное, поэтически подражающее ритмам природы, погруженное в жизненный мир, устное предание непосредственно переживается как необходимая вечная мудрость, не вызывающая сомнений и вопросов об истинности.
Письменный текст позволил обособиться воспоминанию, придав ему характер устойчивого представления. Это результат субъективного видения прошлого, предполагающего его индивидуальное восприятие и осмысление. Возможность индивидуальной фиксации исторического материала ведет к допущению многообразия точек зрения, контекстов, способов аргументации и представления. «Память, перемещенная в рукописный текст, … заставила время остановиться, позволив обособиться воспоминанию, которое было невозможно в устной культуре. Воспоминания – текучие, динамичные, постоянно меняющиеся в повторениях устной традиции – могли теперь быть выражены в более прочных представлениях о прошлом. Таким образом, сообщения о прошлом, представленные в письменном тексте, становились мнемоническими местами, неподвижными симулякрами, бывшими в состоянии, тем не менее, воодушевлять отдельные воспоминания, которые нам и пришлось назвать историей» [Хаттон 2004, 25]. Возможность фиксации, организующей нарративное пространство, открывает множество вопросов об истинности знания, о специфике его передачи, о перспективах.
Технология производства печатного текста активизировала потребность в ясной и точной формулировке идей, а также способствовала выработке общих критериев кодирования знания. Это стимулировало разработку универсальных принципов получения исторического знания (как конкретного, обусловленного пространственно-временными координатами, позволяющими оценить его значимость, ориентированного на особое, случайное, уникальное), развитие профессионального сообщества ученых-историков, критериев существования и функционирования институтов, обеспечивающих производство, трансляцию и функционирование знания о прошлом.
В результате начала формироваться источниковедческая и историографическая база, корпус научных текстов, определяющих грани социальной памяти, оказывающей влияние на формы мышления и характер жизнедеятельности людей.
Редуцированные до учебных научные тексты попадают в образовательное пространство, выполняя функции социализации, воспи- тания, формируя коммуникативную и общекультурную компетенции.
Представление о тексте, утвердившееся в исторической науке, ограничивается его традиционной трактовкой как объекта речетворческого процесса, объективированного в письменной форме, целенаправленного и имеющего прагматическую установку. Интерпретация текста как социокультурного феномена обладает большей эвристикой в плане осмысления специфики и роли исторического знания в современном социальном пространстве.
Любой текст представляет собой знаковую структуру, фиксирующую авторские интенции и сведения о реальности. Как единица коммуникативного процесса текст направлен на выработку способов со-существования в социальном пространстве, адресован активному мыслящему субъекту. Фактом присутствия в коммуникативном пространстве текст задает логику его организации и одновременно создает условия для диалога, спонтанной трансформации установок мышления, позволяя участникам диалога обнаруживать возможности выхода в новое смысловое поле. Открытость смысловой структуры, обусловленная идеальной природой знаковых единиц, создает креативный потенциал текста. В разные периоды времени, в разных контекстах текст предстает в уникальных неповторяющихся ракурсах.
Текст заключает в себе исторический смысл, «который является результатом его интенциональности: интенция как бы напрягает текст изнутри, создает его устойчивую смысловую структуру, закрепляемую в системе текстообразующих единиц, парадигматике и синтагматике их связей. Наряду с устойчивым историческим смыслом текст несет в себе множество подвижных, изменчивых «трансисторических» смыслов, которые подлежат уже не реконструкции, а «производству» со стороны интерпретатора» [Барт 1994, 33]. Организуя социальное пространство в модусе знакового общения, текст участвует в формировании социальной реальности, обеспечивая при этом возможность эволюции социальных отношений.
Исторический текст – результат деятельности, направленной на актуализацию в настоящем значимых элементов прошлого.
Как всякий текст, порожденный состоянием и задачами субъекта, он отражает картину реальности, отвечает целям субъекта, организует пространство взаимодействия, задает направление для интерпретации и обладает потенциально открытой смысловой структурой.
Историк-профессионал анализирует фактический материал, обобщает и систематизирует его, выстраивая теоретические концепции. При этом какие-то аспекты могут сознательно или бессознательно отбрасываться как незначительные или случайные, роль и значение других может преувеличиваться или уменьшаться. В результате формируются версии и интерпретации прошлого. Получая доступ к новым документам, исследователь вводит в научный оборот новую информацию, которая могла быть скрыта даже для участников событий, устанавливает наличие альтернатив и нереализованных возможностей. С течением времени появляется возможность переоценки ситуаций. Некоторые историки предлагают контрфактические варианты развития событий, иногда позволяющие лучше уяснить их суть, способствуя приращению научного знания, предоставляя условия для полемики и новых фактов историографии. «Нельзя изменить вещную фактическую сторону прошлого, но смысловая, говорящая сторона может быть изменена, и незавершима, свободна» [Экштут 2000, 80].
Как автономное образование, способное преодолевать временные и пространственные ограничения, актуализируясь в новом контексте, исторический текст несет в себе возможность переосмысления прошлого. «История для будущего фактически бесконечна, в качестве прошлого она – открытый интерпретации беспредельный мир смысловых отношений, которые, во всяком случае иногда, как будто сливаются во все расширяющемся общем смысловом потоке » [Ясперс 1991, 269].
Историческое знание рассеяно в пространстве науки, образования, философии. Любые предметы материального мира, связанные с жизнедеятельностью человека, мифы и предания, художественные образы – все это присутствует в реконструкциях исторического пространства, объекты которого наделяются специфическими культурными смыслами. Идеологи предлагают свои вари- анты прошлого, избирательно используя элементы исторического знания для укрепления политических платформ.
Историческое сообщество в целом и каждый историк в отдельности реконструируют информационное поле, характеризующее динамику исторического процесса. Нарративная практика сопряжена с выбором, оценкой, оформлением материала о прошлом в контексте настоящего – с интерпретацией. Благодаря интерпретации простая хронологическая последовательность событий обретает социальную значимость. Интерпретативные процессы формируют дискурс, в котором закладываются коды, необходимые для понимания прошлого.
Дискурс в самом общем плане предстает как система знаково-символических средств и стратегий их реализации, формирующихся в процессе передачи информации на определенную тему. В истории философии существует традиция рассматривать дискурс как тип рациональности – логической связи, направленной на поиск смысла. Организующим началом этого процесса является цель поиска. Как результат целеполагания дискурс можно рассматривать как способ отношения к миру. Разные дискурсивные практики имеют свойственные им правила, концепты и стратегии.
Варианты и композиции текстов общей направленности формируют единое информационное пространство. Но в зонах влияния определенных групп текстов формируются уникальные локальные миры. Дискурсивные практики создают дифференциацию в социальном пространстве. Через акцентуацию отдельных аспектов прошлого история способствует как консолидации общества, так и его дифференциации.
Вдохновляющие людей «мнемонические места» поддерживают историческую память, которая актуализируется через повторение и воображение. Повторение, или следование традиции, позволяет событиям прошлого на эмпатическом, исключающем рефлексию уровне, включаться в обстановку настоящего поддерживая актуальность прошлого.
Вместе с тем образы памяти всегда фрагментарны и условны, они обретают свое значение только проецируясь в конкретную социокультурную среду. «Образ не является проводником к внутренним механизмам воображения его создателей, но, скорее всего, представляет собой зеркало, отражающее озабоченность настоящим» [Хаттон 2004, 71]. Воспоминание всегда активизируется в контексте настоящего, оказываясь актом восстановления. Воспоминание можно назвать процессом воображаемой реконструкции. «Историческая память – совокупность представлений о социальном прошлом, которые существуют в обществе как на массовом, так и на индивидуальном уровне, включая их когнитивный, образный и эмоциональный аспекты» [Рюзен 2001, 9].
К концу ХХ века «предметом истории становится не событие прошлого как таковое, а память о нём, тот образ, который сохранился у переживших его участников и современников, транслировался их потомкам, реставрировался или реконструировался следующими поколениями, подвергался проверке и коррекции в ходе исторической критики. Историческая память понимается как коллективная память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание группы) или как социальная память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание общества)» [Репина (ред.) 2006, 22–23]. Ответственность за трансляцию знания о прошлом несет социальная память – «сложная сеть общественных нравов, ценностей и идеалов, отмечающая границы нашего воображения в соответствии с позициями тех социальных групп, к которым мы относимся» [Рюзен 2001, 9]. Современные исследователи определяют социальную память как совокупность социокультурных средств и институтов, осуществляющих отбор и преобразование актуальной социальной информации в информацию о прошлом (ретроспективную) с целью сохранения накопленного общественного опыта и передачи его от поколения к поколению [Аникин 2007, 163].
Будучи результатом целеполагания, исторический нарратив предстает не столько как описание сюжета из прошлого, сколько как инструкция конструирования реальности, в которой присутствует ценностная «разметка» прошлого в контексте настоящего. Участвуя в конструировании социального пространства и времени, исторический нарратив обладает прагматическим значением. Идентификация социальных групп, формирующегося у них чувства общности и достоинства, которые всегда были связаны с исторической памятью, сегодня во многом реализуются путем сознательного формирования представлений о прошлом. История оказывается ресурсом для осмысления и описания событий, идей, социальных субъектов, которые избираются экспертным сообществом для формирования социально признанного знания.
История – органичная часть культуры как стратегии, обеспечивающей выживание социума. В современном социокультурном пространстве особую роль играют знания, позволяющие осуществлять междисциплинарный синтез, снимать методологические противоречия и вырабатывать программы научной и практической деятельности, отвечающей задачам самосохранения человека и общества. Историческое знание направлено на выявление источников и оснований возможностей для формулирования, распространения и реализации общезначимых ценностей. Исторический текст – результат человеческой деятельности, в процессе которой происходит изменение как объекта деятельности, так и ее субъекта. Исторический текст сегодня можно рассматривать как технологию работы с информацией, которая ведет нас от понимания истории как знания о прошлом к истории как знанию, открывающему выход в другое измерение, новому видению реальности, выстраивающему пути освоения иных условий бытия, новых ментальных состояний.
Список литературы Исторический текст как социально-философский феномен
- Аникин 2007 - Аникин Д.А. Социальная память в свете информационного подхода // Вестник Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина. 2007. № 12. С. 163-167. EDN: KAJZJB
- Барт 1994 - Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика М.: Прогресс, 1994.
- Репина (ред.) 2006 - Репина Л.П. (ред.). История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени. М.: Кругь, 2006.
- Рюзен 2001 - Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // Диалог со временем. 2001. Вып. 7. С. 8-26.
- Хайдеггер 2003 - Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио, 2003.
- Хаттон 2004 - Хаттон П.Х. История как искусство памяти. СПб.: Владимир Даль, 2004.
- Экштут 2000 - Экштут С.А. Сослагательное наклонение в истории: опыт несбывшегося. Опыт историко-философского осмысления // Вопросы философии. 2000. № 8. С. 79-87. EDN: RGDYVD
- Ясперс 1991 - Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. EDN: SIPDRX