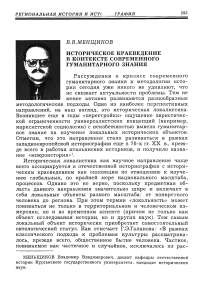Историческое краеведение в контексте современного гуманитарного знания
Автор: Менщиков Владимир Владимирович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Народы России: возрождение и развитие
Статья в выпуске: 3 (44), 2003 года.
Бесплатный доступ
Анализируется современная методологическая ситуация в отечественном гуманитарном знании. Подчеркивается, что одним из показателей в этой сфере является появление новых научных направлений - исторической краеведения и регионалистики. На примере научного анализа историко-краеведческих исследований курганских историков, проведенного в 1991 году, сделана попытка определить место историко-краеведческого исследования в системе гуманитарных знаний.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222078
IDR: 147222078
Текст научной статьи Историческое краеведение в контексте современного гуманитарного знания
Рассуждения о кризисе современного гуманитарного знания и методологии истории сегодня уже никого не удивляют, что не снижает актуальности проблемы. Тем не менее активно развиваются разнообразные методологические подходы. Одно из наиболее перспективных направлений, на наш взгляд, это историческая локалистика. Возникшее еще в годы «перестройки» ощущение эвристической ограниченности универсалистских концепций (например, марксистской социологии) с неизбежностью вывело гуманитарное знание на изучение локальных исторических объектов. Отметим, что это направление стало развиваться в рамках западноевропейской историографии еще в 70-х гг. XX в., прежде всего в работах итальянских историков, и получило название «микроистория»1.
Историческая локалистика как научное направление чаще всего ассоциируется в отечественной историографии с историческим краеведением как оппозиция по отношению к изучению глобальных, по крайней мере национального масштаба, процессов. Однако это не верно, поскольку предметная область данного направления значительно шире и включает в себя локальные объекты разного масштаба: от конкретного человека до региона. При этом термин «локальность» может пониматься не только в территориальном и человеческом измерении, но и во временном аспекте (причем не только как объект исследования истории, но и других наук). Тем самым локальный объект исторически приобретает самостоятельный онтологический статус. Как отмечает Г.Э.Галанова: «В рамках классического подхода к проблемам культуры рассматривалось, прежде всего, общественное бытие человека. Частное, понимаемое как частичное и случайное, исключалось из рас-
МЕНЬЩИКОВ Владимир Владимирович, доцент кафедры отечественной истории Курганского государственного университета, кандидат исторических наук.
смотрения, преобладал интерес ко всеобщему. Неклассический подход характеризуется, во-первых, интересом к повседневности и, во-вторых, возникновением интереса к случайному и в этой связи к теме „маленького человека" и его частной жизни. В корне изменения представлений о бытии и оппозиции „существенное — несущественное" лежит онтологический поворот, произошедший в рамках неклассической философии»2 Поэтому кажется, что «всемирная история», которая по своему статусу вынуждена и должна абстрагироваться от частных фактов, распадается на мириады равносущественных событий. Сам термин «глобальность» превращается в фикцию.
Однако, по нашему мнению, это лишь видимость. Глобальность как определенный масштаб рассмотрения человеческой истории все-таки имеет место, историк вправе ставить и решать задачи макроисторического масштаба. Без них невозможно адекватно описать, например, такие явления, как мировые войны или процессы современной глобализации. В связи с этим очень точно характеризуют внутренний смысл исторической локалистики или микроистории слова Ж.Ревеля: «Микроистория, вводя разнообразные и множественные контексты, постулирует, что каждый исторический актер участвует прямо или опосредованно в процессах разных масштабов и разных уровней, от самого локального до самого глобального и, следовательно, вписывается в их контексты. Здесь нет разрыва между локальной и глобальной историей и тем более их противопоставления друг другу. Обращение к опыту индивидуума, группы, территории как раз и позволяет уловить конкретный облик глобальной истории. Конкретный и специфический, ибо образ социальной реальности, представляемый микроисторическим подходом, это не есть уменьшенная, или частичная, или урезанная версия того, что дает макроисторический подход, — а есть другой образ»3 Видимо в этом соединении несхожих образов и может возникнуть ощущение тотальности истории (соединение макро- и микро-исторического масштаба), обозначаемого Ж.Ревелем как «конкретный облик глобальной истории».
В рамках отечественной историографии наибольшего развития идеи исторической локалистики получили в рамках так называемой исторической регионалистики4, так как одним из важнейших постулатов этого направления является тезис о невозможности редукционистского сведения национальной истории (макроисторический аспект) к совокупности региональных историй (микроисторический аспект). Так, 1^И.Зубков пишет: «Принято думать, что регион и классическое национальное государство соотносятся между собой как «часть» и «целое»... Чисто феноменологически это выглядит именно так, но только феноменологически... Поэтому исследования истории государства и истории региона лежат в разных аналитических проекциях и соотносятся с разным бытийным наполнением исторического времени»5 Таким образом, на региональном и национальном уровнях исследования историк сталкивается с различным «бытийным наполнением», то есть онтологически разными объектами. Одновременно справедливым будет утверждение о том, что любое событие, попадающее в поле зрения историка, может быть наполнено разным значением в зависимости от рассматриваемого контекста. Но своеобразной сверхзадачей историка в этих условиях становится поиск пересечения или возможного взаимодействия указанных контекстов.
Отечественное краеведение, как может показаться на первый взгляд, всегда было сосредоточено на изучении локальных объектов. В сферу интересов исследователей попадали отдельные люди, населенные пункты, территориальные образования. В связи с этим историческое краеведение по содержанию оказывается более широким, чем историческая регио-налистика. По своей сути, потенциальной познавательной на-груженности, краеведение оказывается ближе к исторической локалистике. Однако в краеведческих исследованиях сегодня явно преобладает макроисторический контекст. Краеведческий материал выступает скорее как иллюстрация прежде всего социально-экономических процессов национально-государственного масштаба. Исключение могут составлять, возможно, лишь активно развивающиеся сегодня генеалогические исследования, в которых история отдельного рода, конкретной семьи и человека приобретает самостоятельное значение, а также история отдельных населенных пунктов в значительных хронологических рамках6.
При историографическом анализе той или иной исторической проблемы весьма эффективными могут быть некоторые методы наукометрического анализа. Наукометрия — это «науковедческая дисциплина, осуществляющая воспроизводимое измерение научной деятельности и выявляющая ее объективные количественные закономерности», или «количественные методы изучения науки как информационного процесса»7 На наш взгляд, определяющим при подобном подходе является рассмотрение того или иного исследовательского поля как некоторой структуры, а наукометрические методы выступают здесь как определения количественной (квантитативной) меры организации данной структуры. Методы наукометрии довольно активно применяются в естественных науках. В цикле гуманитарных дисциплин они не получили широкого распространения, что в значительной степени объясняется характером гуманитарного знания, в котором, как нам кажется, количественные характеристики не носят абсолютного значения, а являются лишь относительной мерой. Пример подобного анализа — исследование екатеринбургского историка М.Ю.Нечаевой по проблемам изучения истории православной церкви8. Среди разнообразного инструментария наукометрии, по мнению М.Ю.Нечаевой, наиболее полезными могут быть методы подсчета числа публикаций, «цитат-индекс», контент-анализ9 В качестве еще одного примера использования подобных методов в гуманитарной сфере может быть приведен контент-библиографический обзор, проведенный екатеринбургскими историками А.И.Богатыревым и Г.Е.Корниловым10
Активная научная и издательская деятельность по изучению истории Южного Зауралья, развернувшаяся в 90-е гг. XX в. в г.Кургане, привела к созданию значительного историографического поля, которое вполне возможно подвергнуть наукометрическому анализу с целью выяснения соотношения современного краеведения и исторической локалистики (реги-оналистики).
Для анализа нами была отобрана печатная продукция курганских историков, изданная под эгидой Курганского областного общества краеведов, а также силами историков Курганского государственного университета в период с 1990 по 2002 г. В поле нашего внимания попали сборники научных трудов, материалов конференций, в том числе имевших периодический характер. Например, «Земля Курганская: прошлое и настоящее»11. Всего было рассмотрено 617 статей из 23 сборников. Отметим, что большинство их них не посвящены какой-либо отдельной теме, но имеются и тематические сборники (по истории православной церкви в Зауралье, развитию архивного дела в крае, развитию культуры и т.п.). Заметим также, что анализировались только статьи по истории, имевшиеся в определенных сборниках статьи естественно-научного характера не рассматривались. Необходимо иметь в виду, что курганские историки публиковали результаты своих исследований по истории Южного Зауралья не только в Кургане. Рассмотренные нами значительные объемы издательской деятельности, по нашему мнению, нивелируют неизбежно присутствую- щую погрешность в количественном анализе. Поэтому все-таки отобранный издательский материал отражает общее состояние исторических исследований Южного Зауралья в рамках курганского сообщества историков.
Анализ публикаций был проведен по двум основным корреспондирующимся параметрам: хронологическому и тематическому, которые были выделены на основании самих публикаций. Темы вполне традиционны: экономическое, общественно-политическое развитие, социальные отношения, история культуры, демографические процессы, история церкви, история сельских населенных пунктов, персоналии, источниковедение, историография и, наконец, методология и теория исторического процесса. Статьи по этим темам распределились следующим образом: наибольшее количество публикаций по истории культуры — 21,05%, источниковедческие работы составили 15,6, различные аспекты экономического развития — 13,0, общественно-политическая тематика — 10,1, статьи о социальных отношениях — 9,5, деятельность и жизнь известных людей Зауралья — 8,1, истории церкви — 6,5% статей. «Аутсайдерами» стали историография — 5,5%, история сельских населенных пунктов — 4,1, методология и теория истории — 4,0, демографические процессы — 2,6%.
На первый взгляд вполне очевидно преобладание так называемой культурной тематики, что в современных методологических условиях представляется вполне объяснимым, имея в виду набирающие силу антропологический, цивилизационный и культурологический подходы в изучении истории. Однако более детальный анализ приводит к несколько иным выводам. Наиболее популярная тематика в советский период развития исторической науки была связана с социально-экономическими и общественно-политическими процессами. Если объединить указанные тематические разделы, выделенные нами, то в совокупности они составят 32,6% всех публикаций. Сами статьи по вопросам истории культуры вполне вписываются в традиционный для советской историографии набор сюжетов. Следует отметить в связи с этим, что большая часть статей посвящена культурным процессам советской эпохи — 80 статей из 131, причем внутри этого комплекса наибольшее количество публикаций относится к послевоенному периоду — 26. Статьи преимущественно посвящены истории образования, подготовки педагогических кадров, деятельности других учреждений культуры советской эпохи. Скорее всего можно говорить о наличии определенной инерции в исследователь- ском процессе истории культуры Зауралья с 70-80-х гг. XX в., чему не в малой степени способствовала сложившаяся в это время в Курганском педагогическом институте школа историко-педагогических исследований.
Весьма интересен расклад статей социально-экономической и общественно-политической тематики по хронологическому критерию. Среди публикаций по экономике существенно преобладают исследования по второй половине XIX — началу XX в. (31 из 79). Социальная тематика дает примерно такой же расклад — 20 из 50. Это вполне объяснимо, так как именно в период активного втягивания южнозауральского района в систему капиталистических отношений исследователи фиксировали существенные достижения в социально-экономическом развитии края, что стимулировало дополнительный исследовательский интерес, причем обеспеченный документальным материалом, хранящимся в фондах Государственного архива Курганской области. В этот период Южное Зауралье выходит как на всероссийский, так и на международный рынок. В начале XX в. край становится известен как основной производитель сибирского масла. Вполне очевидно, что подобные явления не могли не стать предметом пристального внимания зауральских историков. Этим же, по всей вероятности, объясняется и выход в свет отдельных тематических сборников по данному периоду истории12
Среди статей по общественно-политической тематике особо выделяются публикации по периоду революции 1917 г. и гражданской войны — 15 из 63; на втором месте — публикации по периоду 20—30-х гг. XX в. — 12; остальные периоды представлены значительно меньше.
Обращает на себя внимание совсем незначительное место, которое занимают демографические изыскания. Причем подавляющая часть их относится к дореволюционному периоду (12 статей из 16!). Практически полностью из поля зрения исследователей выпали годы революции, гражданской войны, 30-х гг. XX в., Великая Отечественная война. Это периоды, в рамках которых протекавшие демографические процессы оказали наиболее значительное влияние на народонаселение страны и региона. Последствия людских потерь в те периоды ощущаются до сих пор.
Интерес представляет хронологический анализ структуры научных публикаций. На основе группировки статей по основным хронологическим отрезкам выделены три наиболее «насыщенных» исследованиями периода — советская эпоха, вторая половина XIX — начало XX в., XVII — XVIII вв.
Результаты анализа показывают, что советской эпохе посвящены 39,6 % публикаций, второй половине IX — началу XX в. — 21,6, XVII—XVIII вв.— 7 %. Советская история является доминирующим объектом исторических исследований по структурно-количественным показателям. Особо следует отметить исключительно малое количество публикаций по древнейшему периоду истории Южного Зауралья (до XVII в.), их оказалось всего 2,1% от общего количества статей.
Проведенный анализ показывает преобладание традиционных методологических подходов (макроисторических) в исследовании истории Южного Зауралья. Однако историческая реальность не ограничивается перечнем выделенных нами исследовательских тем. Современное краеведение оказывается скорее редуцированным вариантом отечественной истории, причем редукция проводится, как правило, на основании административно-территориального критерия (история ныне существующих областей, районов). Подобное обстоятельство неизбежно приводит к модернизации представлений о прошлом, а значит к искажению исторического знания. Тем не менее указанная выше потенциальная исследовательская направленность исторического краеведения на локальные объекты в микроистори-ческом контексте, а также накопленный краеведением фактический материал могут стать надежным фундаментом, отправной точкой в историко-региональных и краеведческих исследованиях, опирающихся на новые методологические основания.
Таким образом в рамках современного отечественного гуманитарного знания понятия «регионалистика» и «историческая локалистика» еще не обрели устойчивого содержания. В значительной степени конкретное понятийное содержание большинством исследователей улавливается скорее интуитивно. Происходит, на наш взгляд, изменение содержания исторического краеведения. Следовательно, одной из важнейших задач современного исторического краеведения является определение предметного поля исследования этих научных дисциплин.
Список литературы Историческое краеведение в контексте современного гуманитарного знания
- Grendi Е. Microanalisi е storia sociale//Quademi storici. 1977. № 35;
- Ginzburg С., Poni С. Il nome et il come. Mercato storiografico e scambio disuguale//Quademi storici. 1979. № 40.
- Галанова Г.Э. Постмодернистские тенденции в развитии современной истории и проблема частной жизни//http://old.ssu.samara.ru/research/philosophy/journa!7/
- Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального//http://www.tuad.nsk.ru/~history/
- Алексеев В.В., Артемов Е.Т. Регионализм в России: история и перспективы//Урал. ист. вестн. Екатеринбург, 1996. № 3.