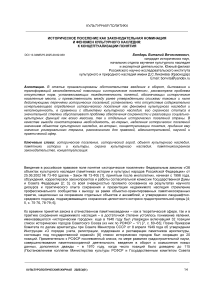Историческое поселение как законодательная номинация и феномен культурного наследия: к концептуализации понятия
Автор: Бондарь В.В.
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Культурная политика
Статья в выпуске: 3 (61), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы обстоятельства введения в оборот, бытования и трансформаций законодательной номинации «историческое поселение», рассмотрена проблема отсутствия норм, устанавливающих тождественность понятий, обозначающих исторические населенные места, и преемственность между ранее утвержденными списками таковых и ныне действующими перечнями исторических поселений; установлено, что отсутствие содержательно исчерпывающего определения исторического поселения как феномена культурного наследия и неполноценность, в сравнении с объектами культурного наследия, его охранного статуса в значительной степени обусловливают проблему обеспечения сохранности и реализации социально-культурных функций как всего массива, так и отдельных исторических поселений страны. В качестве вывода констатирована необходимость, во-первых, наделения исторических поселений значением объектов культурного наследия, во-вторых, концептуализации понятия, придания ему значения универсального термина, равнозначного для правовой, административной, научной и практической сфер.
Историческое поселение, исторический город, объект культурного наследия, памятники истории и культуры, охрана культурного наследия, памятникоохранное законодательство, концептуализация
Короткий адрес: https://sciup.org/170210922
IDR: 170210922 | DOI: 10.34685/HI.2025.29.82.039
Текст научной статьи Историческое поселение как законодательная номинация и феномен культурного наследия: к концептуализации понятия
Введение в российское правовое поле понятия «историческое поселение» Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (далее – Закон № 73-ФЗ) [1], принятым после многолетних, начиная с 1996 года, обсуждений, корректировок законопроектов и работы согласительной комиссии Государственной Думы и Совета Федерации [2; 3], со всей очевидностью проявило основанное на результатах научного дискурса и практического опыта сохранения и презентации недвижимого наследия стремление профессионального сообщества к выходу за рамки объектно-ориентированных памятникоохранных практик, нацеленных на сохранение отдельных объектов и ансамблей, и утверждению ландшафтносредового подхода, подразумевающего сохранение целостности историко-градостроительной среды [4; 5, с. 75-76, 78-79; 6].
Ко времени принятия закона в отечественном памятниковедении – как в теоретической сфере, так и в практике сохранения недвижимого наследия – в достаточной степени устоялось понимание явления, именовавшегося «историческим городом»: еще в 1946 году был утвержден включавший 32 позиции список исторических городов Советского Союза (из них по РСФСР – 17) [7, с. 60–63]. Позже Приказом Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР от 8 апреля 1949 года об утверждении Инструкции «О порядке учета, регистрации, содержания и реставрации памятников архитектуры, состоящих под государственной охраной» [8] список исторических городов был сокращен до 20 позиций. Применительно к РСФСР послевоенный список, по мере развития градостроительной науки, совершенствования памятникоохранной деятельности, введения в оборот и осмысления новых данных, дополнялся дважды – в 1970 году, когда число позиций было доведено до 115 (Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и Государственным комитетом Совета
Министров РСФСР по делам строительства от 31 июля 1970 г. № 36), и в 1990 году, в результате чего число позиций в списке превысило полутысячу (совместным Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г. № 3 и президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. № 12(162). Как следует из наименований: «Список городов и других населенных мест РСФСР, имеющих архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками национальной культуры, а также сохранившиеся природные ландшафты и древний культурный слой земли, представляющий археологическую и историческую ценность» (1970 г.) и «Список исторических населенных мест РСФСР» (1990 г.),– оба документа включали, помимо собственно городов, и негородские поселения – села, станицы, поселки и хутора: в списке 1990 года их значилось 112 при общем числе 539 [9].
Можно предположить, что, включая в 2002 г. в Закон № 73-ФЗ главу XII «Исторические поселения» и собственно универсальное понятие «историческое поселение» (в предшествовавших нормативных актах – союзном Законе «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 29.10.1976 года № 4692-IX [10] и республиканском «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 15.12.1978 года [11] – понятия «исторический город» либо «историческое поселение» не применялись), законодатели, помимо прочего, намеревались преодолеть различия в обозначениях феномена, бытовавших в подзаконных актах и практиках сохранения и популяризации материального наследия – «исторический город», «историческое населенное место» («населенный пункт»), полагая, что понятие «исторический город» выступает частным случаем понятия «историческое поселение», а понятия «поселение» и «населенное место» синонимичны.
Действительно, словари и энциклопедии однозначно определяют понятия «поселение», «населенный пункт», «населенное место» как тождественные. Например, в «Большой советской энциклопедии» дано такое определение: «Населенное место, населенный пункт – первичная единица расселения людей» [12, с. 196], в «Демографическом энциклопедическом словаре» – «Поселение, населённое место, населённый пункт, постоянно или сезонно обитаемое место» [13, с. 339], в «Словаре русского языка» – «Поселение... населенный пункт, селение» [14, с. 313].
В современном российском законодательстве понятие «поселение» было впервые употреблено в статье 131 Конституции 1993 года для обозначения городских и сельских территорий местного самоуправления [15, с. 56], определения же их были даны позже, в статье 2 «Основные термины и понятия» Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; городское поселение – город или поселок с прилегающей территорией (в составе городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями в соответствии с настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; поселение – городское или сельское поселение» [16]. И если при введении понятия «историческое поселение» в законодательство оно было соотнесено с первым, а позже, автоматически, со вторым, названными актами, а в пункте 1 статьи 59 Закона 73-ФЗ наличествовало, пусть и чрезмерно обобщенное, определение явления: «Историческим поселением в целях настоящего Федерального закона является городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию», то в действующей с 12.11.2012 г. редакции того же пункта употреблено выражение «населенный пункт либо его часть», а определение фактически заменено отсылкой к перечням исторических поселений – федерального и регионального значения: «Историческим поселением в целях настоящего Федерального закона являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения» [17]. При этом глоссария в Законе № 73-ФЗ по-прежнему нет, а названные перечни никакими актами не соотнесены со Списком исторических населенных мест РСФСР 1990 года.
Фактически в 2002 году посредством введения новой законодательной номинации произошла юридизация феномена исторических поселений как некой категории культурного наследия. При этом само обозначение феномена ни тогда, ни позже не было концептуализировано ни в теоретикометодологическом, ни, соответственно, в законодательном полях: это отчетливо проявляется в отсутствии в тексте закона исчерпывающего определения, происходящего из наделения словосочетания «историческое поселение» теоретическим и практическим смыслом, что, собственно, и должно было сделать его понятием. Существующее ограниченное, сугубо инструктивное обозначение исторических поселений, бесспорно, облегчает правоприменительные процедуры, но не дает системного представления о целях введения этой законодательной номинации и сопутствующих ей установлений, составляющих целую главу закона, обусловливает неопределенность и противоречивость охранного статуса исторических поселений, что отмечалось целым рядом исследователей [18–23]. Отказ же от соотнесения понятия «историческое поселение» со смежными понятиями «исторический город» и «историческое населенное место» не только усугубил расхождения в интерпретациях сущности явления, но и породил новую проблему сохранения исторических населенных мест России: условная синонимия, как скоро выяснилось, не означает тождественности понятий с позиций действующего законодательства и, как следствие, административных практик.
Как известно, совместным Приказом Министерства культуры Российской Федерации (№ 418) и Министерства регионального развития Российской Федерации (№ 339) от 29 июля 2010 года был утвержден Перечень исторических поселений, включавший всего 41 позицию, что фактически противопоставило его «Списку исторических населенных мест РСФСР» 1990 года с его 539-тью позициями, причем в «новый» Перечень парадоксальным образом не были включены такие исторические города, как Архангельск, Великий Новгород, Вязьма, Гатчина, Дмитров, Звенигород, Ивангород, Изборск, Казань, Калуга, Кисловодск, Можайск, Муром, Оренбург, Переславль-Залесский, Псков, Пятигорск, Рязань, Сергиев Посад, Старая Русса, Тверь, Тула, Углич и др., и даже столица России – Москва. Двойственность такого положения ярко иллюстрируется тем фактом, что названные города, как и прочие, общим числом 478 (включая поселки городского типа), ранее составили «Перечень исторических городов России», приложенный к федеральной целевой программе «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002–2010 годы)», принятой Постановлением Правительства Российской Федерации 26 ноября 2001 года [24], то есть за несколько месяцев до принятия Закона № 73-ФЗ, вводившего законодательную номинацию «историческое поселение».
Фактически, ввиду распространения положений Закона № 73-ФЗ исключительно на «исторические поселения», вошедшие в Перечень 2010 года, города и села, составлявшие список 1990 года, то есть «исторические населенные места РСФСР», оказались лишенными какого-либо охранного статуса: при том, что сам список никаким актом отменен не был (в отличие от «Перечня...» 2001 г. [25]), действующий Федеральный закон не содержит нормы, согласно которой сохраняют силу правовые акты, принятые в отношении «исторических населенных мест РСФСР» до введения его в действие, как и нормы, устанавливающей равноценность для целей Закона понятий «историческое населенное место» и «историческое поселение», что было отмечено выше.
Сложившуюся ситуацию наглядно иллюстрирует опубликованное в прессе разъяснение Министерства культуры РФ по запросу общественности Гатчины о судьбе неопределенного, после введения «Перечня...» 2010 года, охранного статуса города: «Действующим федеральным законодательством «историческое населённое место» не предусмотрено, следовательно, указанный список не несёт правовых последствий. В ст. 59 Федерального закона определено понятие «историческое поселение» [26].
Такое положение дел ожидаемо вызвало непонимание и возмущение профессионального сообщества и вообще ревнителей старины, справедливо отмечавших, что подавляющее большинство исторических населенных мест, и без того понесших в период постперестроечного «градостроительного хаоса», становления новой законодательной базы и новых же правоприменительных практик очевидные утраты историко-градостроительной целостности, впредь фактически оказывалось вне государственного памятникоохранного законодательства и, тем самым, становилось уязвимыми для любых действий, разрушающих подлинную историко-градостроительную среду [27–31].
Впрочем, и до издания пресловутого Приказа 2010 года городские и сельские поселения не могли иметь статуса исторических по причине отсутствия соответствующего перечня. Исключением стали лишь исторические поселения Краснодарского края, статус которых, перечень, границы территорий и режимы градостроительной деятельности в этих границах были установлены краевым законом № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны», изданным 6 июня 2002 г. [32], за три недели до Федерального закона № 73-ФЗ.
По прошествии двух лет после принятия Перечня исторических поселений Министерство культуры РФ Письмом от 18 октября 2012 г. № 2098-12-05 сообщало: «...приказом от 29.07.2010 № 418/339 утвержден перечень исторических поселений, которым предусмотрена возможность подготовки предложений по дополнению перечня. Данная работа будет продолжена Минкультуры России после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. Одновременно информируем, что Список исторических населенных мест РСФСР, утвержденный в феврале 1990 г. постановлением коллегии Минкультуры РСФСР, является действующим документом в части определения населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия и являющихся памятниками национальной культуры, сыгравших важную административно-политическую, экономическую, культурную роль в истории России» [33]. Таким образом, министерство, с одной стороны, обратило внимание на возможность пополнения Перечня исторических поселений в неопределенном будущем, с другой – подтвердило актуальность Списка исторических населенных мест РСФСР 1990 года и историко-культурного значения числящихся в нем поселений, не обозначив, однако, главного: правовой статус самого Списка и включенных в него поселений, а также проистекающих из статуса «исторических населенных мест» правовых, административных и хозяйственно-экономических механизмов их сохранения, регенерации и реализации социальнокультурных функций.
В действительности же, как показали административная практика тех лет и отдельные попытки регулирования градостроительной деятельности в исторических населенных местах посредством общественного контроля, статус этот оставался сугубо номинальным: он не подразумевал законодательного требования установления предмета охраны, границ территорий исторических населенных мест и, соответственно, режимов градостроительной деятельности в этих границах. Само же понятие «историческое населенное место» де-факто выпало из употребления, а феномен «исторический город» стал, большей частью, предметом хотя и довольно обширного, но сугубо научного дискурса [34–39].
Разделение условного массива исторических поселений на две категории историко-культурного значения – федеральную и региональную, введенное посредством изложения пункта 1 статьи 59 Закона № 73-ФЗ в новой, процитированной выше, редакции, установленной Федеральным законом от 12 ноября 2012 г., было фактически запоздалым компромиссом между «Перечнем исторических поселений» 2010 года и «Списком исторических населенных мест РСФСР», посредством которого открывалась возможность актуализации сугубо номинального охранного статуса в новом качестве.
Описанные трансформации законодательной номинации «историческое поселение», состава и иерархии исторических поселений страны, как и отсутствие преемственности между «Списком исторических населенных мест РСФСР» 1990 года, и поздними «Перечнями» федерального и регионального уровней, обусловлены отсутствием смысловой полноты и цельности наличествующей в Законе 73-ФЗ формулировки понятия и неопределенностью охранного статуса исторических поселений в контексте положений этого закона.
Во-первых, как было показано выше, пункт 1 статьи 59 «Понятие исторического поселения» не содержит собственно дефиниции – объяснения сути феномена, не дает целостного, системного представления о нем и его месте в структуре культурного наследия. Во-вторых, не имеет объяснения использование применительно к историческим поселениям формулировки «предмет охраны» (пункт 2 статьи 59): согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 18 этого же закона, таковым считаются «особенности объекта, являющиеся основаниями для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению», тогда как исторические поселения к объектам культурного наследия, согласно статье 3 Закона № 73-ФЗ, не отнесены и в едином государственном реестре, соответственно, не регистрируются. Последнее противоречие, составляющее, на наш взгляд, сердцевину проблемы соотношения сущности феномена и обозначающей его законодательной номинации, весьма наглядно: в законе, именуемом «Об объектах культурного наследия...» наличествует глава «Исторические поселения», посвященная феномену культурного наследия, парадоксальным образом к собственно объектам культурного наследия не отнесенного.
Даже в пространной «Концепции по развитию исторических поселений...», утвержденной Министерством культуры РФ в 2017 году и определяющей «приоритеты государственной политики в области сохранения своеобразия населенных пунктов в процессе их развития», содержится лишь образное определение феномена и своеобразное объяснение его особого статуса в массиве недвижимых памятников: «Исторические поселения – опорные центры географии культуры в регионах. Они обладают огромной притягательностью, некоторые из них являются популярными центрами туризма, хранителями ценнейшего историко-культурного достояния страны. Эти населенные пункты – своеобразная часть мирового культурного наследия...» и далее: «Историческое поселение является не составной частью системы объектов культурного наследия, а основной, объединяющей все мелкомасштабные объекты в единое целое – это урбанистическая структура высокого уровня сложности и многогранности, связанная с самобытностью населенного пункта и сохранившая исторические планировочные, объемно-пространственные и композиционные особенности» [40].
На наш взгляд, такое отрицание объектной сущности исторического поселения несостоятельно: будучи ландшафтно-средовым феноменом, оно является одновременно и цельной, в смысле единства границ, связей объектов и их качеств, территорией – объектом, вполне подходящим под приведенное в статье 3 Закона № 73-ФЗ описание разновидностей достопримечательных мест – одного из видов объектов культурного наследия: «...центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации... В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли».
Показательно, что по прошествии восьми лет после утверждения «Концепции по развитию исторических поселений...» предложенные ею механизмы «разворота» градостроительной политики в сторону сохранения историко-градостроительной среды поселений, «главной целью которого является повышение качества жизни населения», остались нереализованными и, соответственно, не оказали заметного влияния на положение дел в социально-культурной сфере. Статус исторического поселения не только не стал действенным инструментом сохранения подлинной историко-градостроительной среды городов и сельских населенных мест, но напротив, в большинстве случаев воспринимается гражданами, их объединениями, бизнес-сообществами и даже властями разных уровней как избыточное обременение, излишняя нагрузка на бюджет и т.п. В значительной мере этому способствует, несомненно, непонимание сущности культурного феномена и важности сохранения конкретных исторических поселений, которое, в свою очередь проистекает из отсутствия точной формулировки понятия в базовом «отраслевом» законе и неполноценности охранного статуса исторических поселений в сравнении с объектами культурного наследия.
Подводя итог анализа обстоятельств бытования и трансформаций наличествующей в российском законодательстве номинации «историческое поселение» и связанных с ними проблем сохранения как всего массива, так и отдельных исторических поселений страны, констатируем две острые необходимости: во-первых, отнесения исторических поселений к объектам культурного наследия (вида «достопримечательные места», либо же, что должно быть установлено по результатам специальных исследований, отдельного вида), во-вторых, полноценной концептуализации понятия, придании ему значения универсального термина, равнозначного для правовой, административной, научной и практической сфер. Под концептуализацией в данном контексте понимается наделение названного культурного феномена содержательно исчерпывающим, исключающим разночтения, определением, фиксирующим его сущностные характеристики, место и функции в системе материального наследия страны. В этом же русле на законодательном уровне должны быть решены вопросы о взаимосвязях понятия «историческое поселение» с использовавшимися ранее в нормативных актах и практической памятникоохранной деятельности понятиями «исторический город» и «историческое населенное место», о статусе «Списка исторических населенных мест РСФСР» 1990 года и вытекающих из этого статуса правовых последствиях, а также о степени соотнесенности «Списка» с действующими Перечнями исторических поселений. Уточненное и расширенное понимание феномена исторических поселений и его ценности для культуры страны должно быть внедрено в административные, градостроительные, социокультурные практики и, в конечном счете, укоренено в общественном сознании.