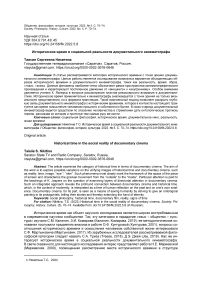Историческое время в социальной реальности документального кинематографа
Автор: Никитина Таисия Сергеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается категория исторического времени с точки зрения документального кинематографа. Целью работы является исследование возможных вариантов объединяющих образов исторического времени и документального кинематографа, таких как реальность, время, образ, «глаз», «кожа». Данные феномены наиболее четко обозначают рамки пространства кинематографического произведения и характеризуют постепенное движение от «внешнего» к «внутреннему». Особое внимание уделяется учению К. Ясперса в вопросе рассмотрения пластов режиссерского внимания в документалистике. Историческое время применительно к кинематографу анализируется с точки зрения не только визуальности представления, но и формата трансляции. Такой комплексный подход позволяет раскрыть глубокую связь документального кинематографа с историческим временем, которое в контексте настоящего трактуется как время осмысления человеком прошлого и собственного бытия. В свою очередь документальный кинематограф видится средством по спасению человечества в стремлении дать онтологическую прописку героям, рассказав их истории и протянув тем самым руку вечности.
Социальная философия, историческое время, документальное кино, реальность, знаки времени
Короткий адрес: https://sciup.org/149140217
IDR: 149140217 | УДК: 304.9:791.43/.45
Текст научной статьи Историческое время в социальной реальности документального кинематографа
Государственная телерадиокомпания «Саратов», Саратов, Россия, ,
Saratov State TV and Radio Company, Saratov, Russia, ,
фильма. Следует отметить, что документальный кинематограф и рассматриваемая нами категория исторического времени в их объемном понимании имеют намного больше точек пересечения, чем это может показаться на первый взгляд.
Довольно часто историческое время определяется как период существования государственности, соответственно все, что было до, относится к доисторическому времени, что будет после – к постисторическому времени. Однако разговор о документальном кинематографе вести исключительно в этом ракурсе излишне схематично, так как объектом документального исследования преимущественно является человек. В связи с этим имеет смысл рассматривать «историческое время» в духовном ключе, опираясь на теорию К. Ясперса о формировании общей для всех людей вере с центрами в Индии, Китае, Иране, Древней Греции и Палестине, что переносит нас в VIII–II века до нашей эры. Временная пропасть между обозначенным выше периодом и рубежом XIX–XX веков, когда свою историю начинает документальный кинематограф, имеет крепкий ментальный мост – стремление к ясному отчетливому самопознанию. И здесь есть смысл углубиться в учение К. Ясперса и провести параллель с документалистикой. Мысль немецкого философа о том, что человек всегда больше, чем он думает о себе, вполне можно определить как эпиграф к документальному произведению. Рассмотрим уровни бытия, определенные К. Ясперсом (Ясперс, 1991).
-
1. Предметное бытие – бытие реального мира. В документальном кинематографе этот пласт внимания именуют горизонтальным. Как правило, фильм создается парой «режиссер – герой». Режиссер (он же автор) берет в руки камеру и следует за своим героем в стремлении увидеть и зафиксировать драматургию в его повседневной жизни, понять человека через детали его бытия, через его реальность. Наиболее яркими представителями использования метода наблюдения сегодня являются режиссер Марина Разбежкина и выпускники ее школы1.
-
2. Экзистенция – внутреннее бытийное ядро личности, то есть то, что человек есть сам по себе. К. Ясперс отмечал, что наиболее ярко этот уровень способен проявиться в пограничных ситуациях, таких как смерть. Всему определено время пребывания на этой земле, и режиссер как человек, понимающий это, стремится дать онтологическую прописку своему герою. И здесь есть смысл упомянуть о документальных фильмах Александра Расторгуева («Ой, мамочки», «Дикий пляж» и др.). Режиссер не раз отмечал, что у каждого человека есть великая история, рассказать ее – значит протянуть руку вечности, сказать: «Я есть»2. Документалистика – это работа по спасению человечества, если рассматривать ее не столько в контексте внешней жизни, сколько в контексте внутреннего бытия личности как локомотива внешних проявлений ее поведения.
-
3. Трансцендентность – непознаваемое, выходящее за рамки, непостижимый предел всякого бытия как отношение «Бог – человек», бессмертие души и т.д. Катализатором к развитию трансцендентности в документальном кинематографе может быть состояние, близкое к тому, что именуют катарсисом, но не в контексте очищения, а в контексте глубины проникновения внутрь себя. Причем речь идет не только о зрителях, но также о героях и авторах (Барт, 1994).
Кинематограф в его перманентной изменчивости позволяет выстроить логику современной мысли через создание рабочих схем: историческое время – документалистика – реальность, историческое время – документалистика – время, историческое время – документалистика – глаз и т.д. Данные феномены характеризуются нами как наиболее четко отражающие особенности кинематографического документализма, то есть обозначающие внутренние рамки пространства кинематографического произведения по аналогии с «кадром», который создает рамку внешнюю. Выстроенная последовательность феноменов демонстрирует постепенный сдвиг от «внешних» отношений к «внутренним». Также стоит отметить, что в кинематографе историческое время является базисом времени художественного и времени эмпирического, то есть временем реальности, которая является объектом отображения.
Документальный кинематограф и историческое время имеют множественные точки соприкосновения. Одна из них – реальность, независимо оттого, рассматриваем ли мы ее как декартовское «существование» (с субстанцией в виде Бога) (Декарт, 1989) или как гегелевскую «идею» (в мире все разумно и человек способен к постижению трех стадий абсолютной идеи) (Гегель, 2007). Реальность является «зоной слияния» исторического времени и документального кинематографа. Документалистика – субъект, историческое время – объект. Реальность – пространство, в котором документальное кино, отражая историческое время, создает субстрат для времени художественного. С другой стороны, реальность – это ещё и объект трансформаций. Историческое время содержит реальность в виде набора символов и знаков, коннотацию которого определяют органы восприятия; документальный кинематограф трансформирует ее в 2D-реальность с определяющим углом зрения, или, выражаясь киноязыком, ракурсом. Кинематографический акт находит отражение в каждом дне существования, в каждом миге реальности.
В обоих приведенных примерах реальность как объект отделяется от своего существования, контекста и рассматривается в определенном временном промежутке вкупе с режиссером, наделенным формирующей властью. Реальность под его ментальным влиянием становится информационной копией. Н. Буррио в книге «Реляционная эстетика. Постпродукция» определяет реальность, как то, «о чем я могу с кем-то говорить» (Буррио, 2016). Режиссер создает продукт взаимодействия со зрителем.
В контексте нашего исследования важным является образ «времени». Речь идет о рассмотрении конкретного промежутка, вычлененного из общего временного потока и ограниченного внутренним хронометражем в своей описательной или визуально-аудиальной части. Внутри этой системы оно может быть ускорено или замедленно. Один из классических примеров документалистики – фильм «Нанук с севера», снятый американским режиссёром Робертом Флаэрти в 1922 году, занимает 79 минут, на протяжении которых повествуется о 16 месяцах наблюдения за жизнью эскимоса и его семьи.
Время имеет периодизацию (в разговоре об историческом времени) и хронометраж сцен и эпизодов (в рассмотрении по отношению к документальному кинематографу). И в том, и в другом случае оно представлено в виде определенного отрезка, состоящего из более мелких, имеющих неравные значения. Внутри кинематографического произведения происходит синхронизация времени горизонтального и вертикального. Первое относится к повествованию в хронологической последовательности с выявлением причинно-следственных связей событий, второе – к повествованию смысловому с рождением метафоры.
Отдельно имеет смысл сказать об образе как изображении и подражании. И в этом смысле все описанные Р. Бартом в его «Риторике образа» сообщения, рассмотренные для фотографии, актуальны также для понимания кинематографа и исторического времени. Барт говорил о трех сообщениях: «языковое, затем иконическое сообщение, в основе которого лежит некий код, и наконец, иконическое сообщение, в основе которого не лежит никакого кода» (Барт, 1994).
Остановимся подробнее на коннотации, так как языковое сообщение и денотация имеют прямой посыл к адресату и не нуждаются в объяснении. Коннотация же рождается в документальном кинематографе в виде метафоры. Необходимо обратить внимание, что в горизонтальных фильмах метафора возникает спонтанно и не является заранее продуманной и предложенной автором. Восприятие изображения обеспечивается органами зрения. Это осознанный процесс, апперцепция. Когда человек на что-то смотрит, он делает выбор и затем вступает в определенные отношения с объектом своего видения. У «глаза» две функции: формирующая и принимающая. Первая – активная. В данном случае глаз фокусирует внимание на определенных знаках исторического времени, о котором было бы уместно говорить через призму суждения Льва Гумилева: «Время историческое обнаруживает себя через насыщенность деяниями и событиями, являющимися проявлением пассионарности этнических коллективов и отдельных людей» (Гумилев, 2016). Действие – это то, что движет сюжет внутри фильма, является составной частью сквозного и контрсквозного повествования. Исходное событие запускает и формирует историю. Здесь стоит упомянуть закон стихотворного ряда, который говорит о повышенной смысловой насыщенности. В документалистике такая семантическая теснота имеет принципиальное значение для построения сюжета, где нет места случайным или проходным кадрам, где каждая склейка между кадрами – это слово, где монтаж построен так, что в случае извлечения одного кадра рушится вся конструкция. В этом отношении есть смысл упомянуть теорию монтажа С. Эйзенштейна (Эйзенштейен, 1964), согласно которой выделяется пять его видов: метрический, ритмический, обертонный, тональный и интеллектуальный. Каждый из них характеризуется особенностями отражения исторического времени, что является режиссерским инструментом в создании уже кинематографической реальности и субъективного взгляда на эту реальность.
«Формирующий глаз» открывает окулярный доступ к жизни сегодня и предчувствию ее «завтра». Принимающая функция глаза – активно-пассивная. С одной стороны, всматривание требует энергетических затрат на принятие информации и ее осознание, но с другой – «продукт» уже сформирован, и значит, отсекать что-то и определять форму нет необходимости, это уже совершено «формирующим глазом». В качестве классического примера здесь можно привести работу первого отечественного документалиста Дзиги Вертова «Киноглаз». Документальный фильм 1924 года, повествующий о новом государстве через небольшие эпизоды из жизни Советского Союза. «Жизнь врасплох», сформированная «Киноглазом», состоит из знаковых элементов исторического времени, известного под аббревиатурой НЭП.
Еще одним объединяющим образом документального кинематографа и исторического времени является «кожа» как вместилище элементов различных уровней. За счет их концентрации образуются символы времени и значимые образы в кинематографе. Кожа, будучи пластичной, способна принимать в себя новые элементы (но их количество небезгранично) и держать определенную, заданную формирующей стороной форму. Кроме того, она реагирует на прикосновения. Документальный тактильный кинематограф, хоть и не выделен в отдельный жанр, но занимает свое место в общем кинематографическом пространстве. И есть смысл упомянуть о коже зрителя как поверхности, способной к внешней трансляции внутренних реакций на документальное произведение в контексте исторического времени (в данном случае близком к пониманию эмпирического).
Историческое время влияет на кинематограф, в свою очередь кинематограф фиксирует «кардиограмму» и ищет смысл исторического времени. Это связь импульсивна, тонка и крепка одновременно, ее субстрат – головной мозг, производная – мысль. В книге «Марсель Пруст и знаки» Жиль Делез писал: «Мы ищем истину только тогда, когда конкретная ситуация нас вынуждает это делать, когда мы подвергаемся в некотором роде насилию, побуждающему нас к поискам. Истина – непременно результат насилия мысли. Искать истину – значит расшифровывать, истолковывать, объяснять» (Делез, 1999).
Документальный кинематограф – символ исторического времени, когда речь идет о реальном времени, о происходящем здесь и сейчас. В конце XIX столетия технический прогресс, знания о свете, опыты с камерой обскура, фотография подготовили почву для рождения кинематографа в документальном виде. На каждом отрезке человеческого развития документалистика являлась «коллекцией» знаков и индивидуальностей определенного исторического времени. Речь идет не о присутствии в пространстве, скорее о его описании, а где-то имеет место и дискуссия со временем. По своей сути это напоминает то, что Марсель Дюшан назвал «коэффициентом искусства», – процесс, который мы наблюдаем, здесь и сейчас (Дюшан, 1996).
Историческое время в документальном кинематографе находит воплощение не только в визуальности, как переход на high definition – формат высокой четкости, но и на платформе трансляции. Интернет как символ исторического времени стал одной из базовых единиц осмысления реальности. «Цифра» как универсальный код выходит на первый план, о чем свидетельствуют форматы и способ трансляции документальных фильмов, а также переведение в электронный вид ранее созданных кинематографических произведений.
Данный подход к рассмотрению исторического времени с точки зрения документального кино через призму объединяющих их образов позволяет предположить, что документальный кинематограф, напрямую связанный с людьми, их взаимодействием друг с другом, пониманием собственного бытия и поиском ответов на экзистенциальные вопросы, сближает кино с философией и в то же время вскрывает для нее новые пласты проблемных вопросов, в числе которых и рассмотрение теоретических аспектов документального кинематографа относительно «цифрового» кода.
Список литературы Историческое время в социальной реальности документального кинематографа
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. 615 с.
- Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. М., 2016. 216 с.
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2007. 876 с.
- Гумилев Л. Passionarium. Теория пассионарности и этногенеза. М., 2016. 936 с.
- Декарт Р. Сочинения. Философское наследие : в 2 т. М., 1989. Т. 1. 654 с.
- Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. СПб., 1999. 190 с.
- Дюшан М. Творческий процесс // Художественный журнал. 1996. № 12. С. 4-5.
- Калинин С.М., Комарова З.И. Категория темпоральности на шкале исторического времени: // Вестник Челябинского государственного университета. 2019. № 4 (426). С. 89-99. https://doi.org/10.24411/1994-2796-2019-10412
- Кунгурова О.Ф. О некоторых методологических подходах к пониманию исторического времени // Образ человека в историко-философском познании. Барнаул, 2001. С. 139-142.
- Мариевская Н.Е. Историческое время в структуре фильма // Вестник ВГИК. 2009. Т. 1, № 1. С. 10-25. https://doi.org/10.17816/VGIK1110-25
- Мартынович С.Ф. Историческое время России как время осмысления и объективации ценности человеческой жизни // Межрегиональные Пименовские чтения. 2017. Т. 14, № 14. С. 385-393.
- Эйзенштейн С.М. Избранные произведения : в 6 т. М., 1964. Т. 2. 567 с.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 527 с.
- Jay J.E. The Use of the Past to Shape the Present: Shifting Depictions of the Ancient World in Twentieth-Century American Cinema // Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences. 2019. Vol. 12, iss. 1. P. 61-78. https://doi.org/10.1007/s40647-018-0225-z
- Treese S.A. Historical Time // History and Measurement of the Base and Derived Units. Cham, 2018. P. 773-835. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77577-7_8