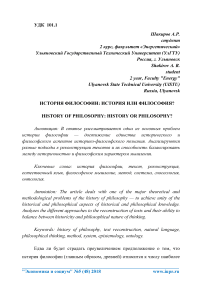История философии: история или философия?
Автор: Шакиров А.Р.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные науки и образование
Статья в выпуске: 5 (48), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается одна из основных проблем истории философии - достижение единства исторического и философского аспектов историко-философского познания. Анализируются разные подходы к реконструкции текстов и их способность балансировать между историчностью и философским характером мышления.
История философии, текст, реконструкция, естественный язык, философское мышление, метод, система, гносеология, онтология
Короткий адрес: https://sciup.org/140238882
IDR: 140238882
Текст научной статьи История философии: история или философия?
Едва ли будет страдать преувеличением предположение о том, что история философии (главным образом, древней) относится к числу наиболее сложных в методологическом плане исследовательских областей. Это, по-видимому, обусловлено двуединой природой философского знания. С одной стороны, оно является частью определенного историко-культурного контекста, существующего в конкретное время и в столь же конкретном месте. На формирование этого контекста оказывали влияние преходящие культурные, экономические, политические факторы, особенности естественного языка, на котором говорил и писал изучаемый мыслитель, его психологический портрет и многое другое. Однако, с другой стороны, философствование есть одновременно и событие мысли, причем, особой, движущейся в своем «слое» реальности, который как минимум иной, нежели тот, в коем сосредоточены вышеуказанные внешние условия его появления. Здесь у мышления свои внутренние причины и движущие факторы, свои цели и потребности. Тут оно вырабатывает такие свойства, которые невозможно свести к конкретно-историческим условиям философствования и которые невыразимы в особенностях естественного языка. Именно эта относительная внеисторичность философского понятийного аппарата делает те или иные положения древних учений актуальными и в настоящее время.
Эта двуединая природа философских представлений ставит исследователя перед необходимостью подвизаться одновременно в двух, в некотором смысле взаимоисключающих, областях — в истории и в философии. Как оказывается, это обстоятельство имеет некоторые последствия для познания. История ориентирует на то, чтобы фиксировать единичные, уникальные события (в том числе и события мысли), удерживать то, что фактически происходило, и ничего постороннего к нему не прибавлять. Историк хочет знать, какие взгляды были свойственны самим, к примеру, Гераклиту или Платону, он стремится выявить объект исследования в его временной чистоте. Предметом его заботы является стремление сохранить специфику эпохи, особенность воззрений, неповторимость переживаний и т. п. Стремясь к полноте рассмотрения, историк проанализирует социально-экономическое положение, политические процессы, современные тому или иному философскому учению, постарается найти уникальную историческую связь между ними и содержанием понятийного аппарата последнего.
Философия же, как высшая форма теоретической активности человека, требует, чтобы мысль уходила в последние основания всего (в том числе, себя самой), чтобы она искала связи всего со всем и с одним, чтобы она находила самые глубинные причины того, что происходит на поверхности явлений. Философ испытывает потребности в таком мышлении, которое не застревает на единичном и всего лишь временном, которое способно продвигаться в самый глубокий, вневременный, слой реальности. Чтобы быть именно философским (а не «околофилософским», похожим на него, философским лишь по названию), мышление, таким образом, должно уметь выходить за границы временного в вещах и в мыслях и искать единое (всеобщее), составляющее причинный уровень для всего того, что находится на поверхности явлений. При этом важно подчеркнуть, что искать единое во многом надлежит не только в объекте, отличном от мышления, на который оно направляется, но и в самом мышлении и его истории, включая историю философии. И в ней следует усматривать не только то, что специфично, но и то, что универсально, не только то, что отделяет мышление одной эпохи от другой, но и то, что объединяет мышление разных эпох, что есть единого в них, несмотря на их специфические особенности.
В стремлении выйти за пределы непосредственно данного, временного и специфического философское мышление часто создает такие теоретические конструкции, которым в исторически определенной чувственно воспринимаемой среде при непосредственном ее разглядывании, мягко выражаясь, мало что соответствует (при этом данные конструкции вовсе не лишены определенной доли объективности и истинности). Стремление к таким предельным теоретическим абстракциям выводит в той или иной мере и саму мысль философа за пределы того историкокультурного контекста, который в качестве некоего условия принимал участие в ее формировании (разумеется, нужно иметь в виду, что степень независимости от последнего разнится в тех случаях, когда объектом познания становится онтологическая и гносеологическая тематика, и в тех, когда философ обращает свое внимание на собственно социальноисторические проблемы). Мысль, оторвавшись от эмпирической, исторической базы, находит основу в себе самой, втягивается в процесс самодвижения, обретает свою логику развития, не тождественную логике развития исторических событий. Она создает понятийный аппарат, в котором отношения между его элементами — отдельными понятиями — уже не отражают особенность социо-культурных феноменов, ставших в той или иной степени условиями его появления.
«Сомнение лишь у Декарта приобрело характерное значение и поэтому лишь благодаря ему произвело фурор; правда, только Декарт высказал всю истину, исключив все темное, таинственное и сомнительное. Правда, лишь он дал философии определенное направление, ограничил и свел ее к ясным различиям мышления и протяжения.» 1 [C. 323]
По мере возрастания отвлеченного характера мышления философ больше руководствуется «потребностями» самого этого мышления, проверяет его на логичность, ищет понятия, отсутствие которых не позволяет построить целостную и последовательную систему представлений, т. е. создает теоретические конструкции по законам самого мышления. Отношение понятийного аппарата к культурно-историческому контексту, конечно же, сохраняется и в этом случае, однако не настолько, чтобы, отталкиваясь непосредственно от последнего, объяснять содержание первого.
Во взаимоотношениях исторического и философского подходов конфликт вовсе не обязателен, хотя история и философия нацелены на разное. Они вполне могут дополнять друг друга: принадлежащая тому или иному историческому персонажу мысль, имеющая какую-то незаурядную глубину, тоже единична и исторически уникальна. Она есть одновременно событие истории и философии. Поэтому наследие такого философа предоставляет возможность «развернуться» и историческому, и философскому типам мышления.
Список литературы История философии: история или философия?
- Фейербах Л. История философии. Собрание произведений в трех томах. Т. 3. Под общ. ред. М. М. Григорьяна. М., «Мысль», 1974