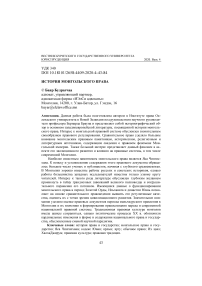История монгольского права
Автор: Баяр Будрагчаа
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: История государства и права
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Данная работа была подготовлена автором в Институте права Оклендского университета в Новой Зеландии под руководством научного руководителя профессора Бернарда Брауна и представляет собой историографический обзор в основном западноевропейской литературы, посвященной истории монгольского права. Интерес к монгольской правовой системе обусловлен значительным своеобразием правового регулирования. Сравнительное право уделяло большое внимание монгольским правовым памятникам, историческим, религиозным и литературным источникам, содержащим сведения о правовом феномене Монгольской империи. Также большой интерес представляет данный феномен в аспекте его эволюционного развития и влияния на правовые системы, в том числе современной Монголии. Наиболее известным памятником монгольского права является Яса Чингисхана. К поиску и установлению содержания этого правового документа обращалось большое число ученых и публицистов, начиная с глубокого средневековья. В Монголии хорошо известны работы русских и советских историков, однако работы большинства западных исследователей известны только узкому кругу читателей. Интерес к такого рода литературе обусловлен глубоким желанием проникнуть в тайну грандиозных завоеваний великого полководца и сокрушительного поражения его потомков. Имеющиеся данные о функционировании монгольского права в период Золотой Орды, Ильханата и династии Юань позволяют на основе сравнительного правоведения выявить его регулятивные качества, оценить их с точки зрения цивилизационного развития. Значительное внимание уделено оценке правовых документов периода маньчжурского правления в Монголии и их значению в формировании правосознания народа и современной национальной правовой системы. Традиционная правовая культура монголов имела шансы сохраниться, однако политические процессы ХХ в. обозначили кардинальные изменения в форме и содержании национального права и государства, обусловленные сменой научной парадигмы
История права и государства, монгольское право и государство, Яса Чингисхана, кодекс Юаня, ярлык, яргу, обычное право, Их цааз, ХалхаДжирум, правовая культура, правовая традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/148317180
IDR: 148317180 | УДК: 340 | DOI: 10.18101/2658-4409-2020-4-43-84
Текст научной статьи История монгольского права
История права государств Дальнего Востока тщательно изучена западными историками и комментаторами. Гарвардский университет, безусловно, лидирует в этом направлении, поскольку десятки книг и статей о событиях и реформах китайского, японского и корейского права прошлого и настоящего времени были изданы в серии «Восточноазиатские правовые исследования». Государственный университет штата Индиана и другие учреждения также внесли огромный вклад в исследование и анализ. Однако среди них работ о монгольском законодательстве и юрисдикции немного, поэтому не имеется полного представления о правовой системе страны в Центральной Азии, территория которой составляет 1,8 млн км². В Монголии есть некоторые исследования, но их также недостаточно. Первым попытался обратиться к освещению истории национального права Л. Дэндэв в 1936 г. в своей работе «История прошлого и современного права Монголии». Позднее С. Жалан-Аажав продолжил исследования в этом направлении1. Отметим, что они не были свободны от идеологии, тем не менее стали важным вкладом в правоведение. Опираясь на анализ, проведенный Л. Дэндэвом, и используя другие сведения, нами предпринята попытка изложения истории монгольского права.
Обычное право
Предполагается, что у каждого народа исторически складывалось свое обычное право, которое применялось в жизни и деятельности их общин. Насколько важны были сами обычаи? Как долго они играли активную роль в этих сообществах? Ответ, на наш взгляд, зависит от того, какой критерий выберем для рассмотрения сроков действия норм разных видов права. В Европе считается, что по законам V–VI вв. «Corpus Juris civilis» римский император Юстиниан заложил основы современного правопорядка. В Китае, по словам Филиппа М. Чена, в 2697 г. до н. э., когда остальной мир был еще «варварским», император Хуан Ди издал законы, регулирующие поведение его подданных.
Исторически, с точки зрения гражданского права, «местный обычай уважался (как закон) только в том случае, если он был приведен в должную форму таким образом, чтобы его можно было подвергнуть методам текстового толкования» [19, р. 245].
В Монголии нет устоявшегося мнения о том, когда обычное право прекратило свое существование или когда стали действовать нормы писанного права. Как сообщает Л. Дэндэв, в государстве древних хунну был какой-то письменный закон, но, к сожалению, в настоящее время его невозможно найти1. В то же время он писал: «В кодексе «Их Засаг» Чингисхана есть комплекс велений юридического характера, а также закон, основанный на обычаях и традициях многих народов, призванный исправлять и наказывать» [8, с. 10].
Эту точку зрения поддерживают некоторые исследователи, в том числе В. А. Рязановский, В. В. Бартольд и Б. Я. Владимирцов. Они полагают, что «Их Засаг» — это закон, в котором отражены традиционные нормы обычаев монгольских племен. В связи с этим Г. В. Вернадский писал: «До сих пор считалось, что Яса2 Чингисхана является простой кодификацией обычного права монгольских племен. Изучение содержания Ясы позволяет нам прийти к другим выводам. Как мы видели, главной целью Ясы было не кодифицировать обычное право бывшего племенного государства, а дополнить его в соответствии с потребностями империи. Что касается вопросов племенного и кланового обычного права, в Ясе практически ничего не говорится. Очевидно, что во многих случаях, например, клановых и семейных институтов, Яса молчаливо принимала принципы обычного права и избегала какого-либо вмешательства в них. Большинство принципов Ясы были предназначены либо для заполнения пробелов в обычном праве, либо, как и в случае с уголовным законом, замены традиционных обычаев новыми постановлениями» [3, с. 359–360].
Что касается мнения более поздних исследователей, то здесь следует привести позицию Чэн П. Хен-чао. В своей книге «Китайская правовая традиция при монголах», опубликованной в 1979 г., он пишет: «До создания династии Юань (1271–1368) монголы уже имели свое обычное право, которое они продолжали применять в течение всего периода» [15].
Жалан-Аажав в предисловии к более ранней версии книги «Халха Джирум» (1958 г.) разделял мнение Владимирцова о том, что в «Их За-саг» был кодифицированной версией традиционного обычного права, но в предисловии к книге, переизданной в 1995 г., он не ставит под сомнение свою позицию, однако яростно возражает против взглядов Владимирцова и Ц. Жамсарано о том, что Монголо-ойратский кодекс и Халха Джирум, кодексы последующих поколений после Их Засаг, также были сборниками общепринятых норм обычного права. Он писал: «Я настоятельно подчеркиваю, что выводы Владимирцова и Ц. Жамцарано не должны приниматься. Было определенное влияние обычного права на составление Хал-ха Джирума, но это был не просто сборник обычного права, это был настоящий закон феодального государства, направленный на укрепление социальной структуры своего времени путем кодификации»1.
Согласно этим противоречивым мнениям, могут быть три разных вывода, что 1) действие обычного права в Монголии завершилось еще в III в. до н. э.; 2) в XI в. в Монголии все еще существовало обычное право; 3) Монголия применяла обычное право до 1924 г., когда была провозглашена первая монгольская конституция.
Чтобы выбрать из них одну позицию, сначала выясним, что такое обычное право. Среди тех исследователей, которые изучали этот предмет, Стэнли Даймонд более четко раскрыл разницу между современным правом (или его предшественниками) и обычным правом. Он пишет, что «соотношение между обычаем и правом характеризуется в основном их противоречием, а не преемственностью. Обычные и правовые порядки исторически, а не логически связаны. Они соприкасаются случайно; одно не подразумевает другого. Обычай, как соглашается большинство антропологов, характерен для первобытного общества и противоречит законам цивилизации ...Если обычаи спонтанны и автоматичны, право является продуктом организованной силы... Обычные правила должны быть четко известны, они не санкционированы организованной политической силой, поэтому возникают серьезные споры о природе обычая, что может разрушить целостность общества. Но законы всегда могут быть изобретены, и есть хорошие шансы на их соблюдение» [6, р. 44–45].
Мишель де Монтень писал, что в первобытном обществе «нет никакого движения, нет письменности, нет науки о числах, нет имени для магистрата или политического превосходства, нет обычая рабства, нет богатства или бедности, нет контрактов, нет правопреемства, нет разделений ... нет ничего, кроме общего родства»2.
Таким образом, как подчеркнул Стэнли Даймонд, «исследование характера политического властвования, вероятно, наиболее точно разграничивает границы нашего интеллектуального ландшафта». Здесь признается, что формирование государства повлияло на то, что отношения, регу- лируемые традиционными обычными правилами, стали второстепенными, после отношений, которые теперь регулировались законом, издаваемым государством. На мой взгляд, Чингисхан идентифицировал их и действовал так, как описал Джувейни: «Во времена начала его владычества, когда монгольские племена были объединены Чингисханом, он отменил предосудительные обычаи, которые практиковались этими людьми и пользовались признанием среди них; и он установил такие обычаи, какие достойны похвалы с точки зрения разума» [2, с. 25].
Стэнли Даймонд продолжает: «Обычай — стихийный, традиционный, личный, общеизвестный, корпоративный, относительно неизменный — это модальность первобытного общества; право — это инструмент цивилизации, политического общества, санкционированного организованной силой, предположительно выше политического общества в целом, поддерживает новый набор социальных интересов. Право и обычаи включают в себя регулирование поведения, но их характер совершенно отличен; не было достигнуто никакого эволюционного баланса между развитием права и обычая, будь то традиционного или возникающего» [2, с. 47].
Он также заметил, что в развитии права отмечается период существования так называемых архаических обществ, где право и обычай существуют бок о бок и наблюдаются «переход от положения к контракту, от родства к территориальному принципу, от расширенного семейного контроля к публичному праву» [2, с. 48].
«Законы возникают в противовес обычному порядку предшествующих ему групп; они представляют собой новый набор социальных целей, преследуемых новой и не предусмотренной обычаем властью в обществе. Эти цели могут быть сведены к одному сложному императиву: навязывание взаимосвязанной системы «переписи — налога — призыва». Территориальная направленность раннего государства, наряду с его вертикальным социальным укоренением, требовала воинской повинности, сбора армии, взимания налогов и пошлин, поддержания бюрократии, а также оценки масштабов, местоположения и численности подвергаемого насилию населения. Это были основные прямые или косвенные поводы для развития гражданского права» [2, с. 54].
С этой точки зрения позиции Поля Чена, Владимирцова, Рязановского и Бартольда стали неоднозначными и предвзятыми. Напротив, позиции и анализ Стэнли Даймонда, Георгия Вернадского и Жалан-Аажава поддерживают друг друга, помогая нам понять, когда обычное право прекратило свое существование в Монголии. Как мы увидим позже, монгольская империя XIII в. явно развивала более высокую степень социальной организации, чем общее родство. Предметы регулирования, правовое мышление, отправление правосудия, внутренние дела — далеко не соответствуют обычному праву.
Также нами показано, что государство, сформированное Чингисханом, было классическим типом системы переписи-сбора налогов, следовательно, его законы были не просто отражением обычных норм архаичного общества, но и законов, с проявляющимися чертами бюрократии, что указывает на высокоорганизованный режим.
Их Засаг или Яса: законы Великой Империи
Считается, что в 1206 г. первый юридический документ в истории монгольского права «Их Засаг» был обнародован1 [8, с. 9; 3, с. 339; 15, с. 4]. Однако ни одна полная версия не была обнаружена. До недавнего времени ученые не сомневались в существовании такого закона, или сохраненного, по крайней мере, в виде рукописи, содержащей его. Как заметил Вернадский, «…трудно установить, какие из так называемых фрагментов Ясы имеют фактическую связь с подлинным. Мы должны помнить, что в дополнение к своим законодательным актам Чингисхан приводил свои наставления или комментарии в разных случаях. Они известны как Билик (знание) ... Должно быть, в обращении как у Ясы, так и у Билика было довольно много различных письменных версий и фрагментов» [3, с. 337].
Факт существования Ясы был зафиксирован в нескольких хрониках, это доказывает, что Яса как письменный документ действительно был. Тем не менее, согласно Айлону (1971) [17] и Моргану (1986)
[11] , хроники не могут быть законными и достоверными источниками предполагаемого «кодекса», поэтому существование самого Кодекса все еще находится под вопросом. Как писал Морган, «<...как бы ни были сделаны поправки на недостатки источников, трудно поверить, что если бы Великая Яса действительно была юридическим кодексом, содержание которого было ясно, опубликовано, общеизвестно и в целом соблюдалось в Монгольской империи, то нельзя было бы найти гораздо больше доказательств этого и иметь гораздо меньше возможностей для такого рода дискуссий. Я предлагаю следующую гипотезу: вероятно, считалось, что существовала «Великая Яса Чингисхана», полученная частично от самого Чингиза и, возможно, частично от ранних монгольских обычаев. Но это не было записано в какой-либо формально определенной форме, поэтому можно было приписать большое разнообразие положений, что считалось необходимым или желательным. На практике это вполне могло быть постепенно развивающейся совокупностью обычаев, не только существовавших до времени Чингисхана, но и появившихся после него» [11, с. 170] .
Он предположил, что правосудие в тот период в основном отправлялось не на основе «Их Засаг» или «Яса», а на основе судебных прецедентов, которые накапливались в течение почти ста лет. В связи с этим работа Х. Нямбуу «Чингис ханы Их Засаг» (Яса Чингисхана) достойна упоминания. По информации, предоставленной Рязановским, Вернадским, Пэрлээ (Монголия), Чигээ-Оюун (Внутренняя Монголия, Китай) и Дам-динсурэном (Монголия), Чингисхан, вероятно, произнес ряд изречений, цитируемых в «Тайной истории монголов». Автор разделил книгу на три части: 1) Указы Чингисхана, 2) Засаг Чингисхана, 3) Билик Чингисхана. Конечно, это был замечательный шаг к открытию великой части нашей истории, которая была хорошо изучена и известна почти 60 лет на Западе, но, к сожалению, была строгим табу на собственной родине. Несмотря на то, что книга имеет большое значение в образовательном плане, но не дается никаких разъяснений по этому вопросу в таких противоречивых обстоятельствах, что вызывает еще большее недоумение. Его классификация интересна, но приведенные ссылки в этом сборнике неясны. Статьи первой части состоят только из диспозиций, статьи второй части являются как диспозицией, так и санкцией, а третья часть состоит из некоторых «учений». Как указывали Дэндэв и 49
Вернадский, статьи «Их Засаг» в основном содержат как диспозиции, так и санкции. Они никогда не включали Билик в закон. Оба предоставили полный список литературы, в том числе: Рашид ад-Дин (Иран)1 [3, с. 338], Макризи (Египет)2, Батута (Египет)3 [3, с. 338], Вардан и Магаки (Арме-ния)4 [3, с. 340]. Жалан-Аажав приводил в качестве источников Березина и Владимирцова, которые также ссылались на Макризи. Георгий Вернадский в значительной степени опирался на «Персидскую историю покорителя мира» Джувейни, умершего в 1283 г. и на «Сирийскую хронографию» Бара Хебреуса (1225/6-1286).
Несмотря на укоренение позиции Моргана и подавляющее мнение о том, что монголы того времени были нецивилизованным и варварским народом, тем не менее существуют косвенные доказательства того, что у монголов были письменные законы, которые были разработаны, наряду с иной масштабной бумажной работой. Как заметил Вернадский, тот факт, что персидские описания «Их Засаг» Баром Гебреем, который умел читать и писать уйгурское письмо, и Джувейни, который провел много лет с монгольскими правителями в Персии, были независимыми, но в основном идентичными, эти источники считаются наиболее важными и надежными. Бар Гебрей писал: «У них есть много других законов, но, чтобы обойтись без длинного их перечисления, мы упомянули лишь несколько из всей коллекции» [3, с. 343].
Единственный способ найти эти свидетельства — систематически исследовать всю историю Монгольской империи, т. е. искать их не только в одном данном ханстве, орде или династии, не только в данное время, но изучить их вместе и обобщенно, чтобы получить более полное представление. Таким образом, отдельные описания монгольской, русской, китайской и персидской хроник могут предоставить искомые доказательства.
К сожалению, ни один монгольский историк еще не сделал или не имел возможности сделать это из-за насажденного Сталиным страха возрождения «панмонголизма». Такой страх не уменьшался до недавнего времени. Что касается зарубежных историков, то только некоторые из них смогли освободиться от предубеждений в своих суждениях. В надежде на то, что появятся какие-то новые доказательства в отношении «Их Засаг» или других юридических документов того времени, подчеркнем, что уже известные факты позволяют понимать правовое мышление и социальную среду того периода, что, очевидно, является более важной задачей, нежели пытаться возродить Кодекс. Поэтому, чтобы кратко изложить ситуацию времени «Их Засаг», приведем суждения Г. Вернадского и Джувейни.
Основной метод объявления войны Чингисханом как принцип международного права обсуждался достаточно подробно. Его ультиматум: «Если вы будете послушно подчиняться, вы найдете хорошее обращение и покой, но если вы сопротивляетесь — как нам знать, что случится? Только Мунх Тэнгэри (Бог) знает, что с вами произойдет» [3, с. 345], — было записано во многих источниках. Принцип неприкосновенности послов и курьеров был впервые введен Чингисханом. Услуги Императорской почтовой службы были доступны иностранным послам. Другое отношение Чингисхана к иностранцам приводится в комментариях Бар Гебре-уса: «…В таком поведении [считать себя защищенным и управляемым Божественным провидением] проявляется уверенность монголов в Господе. И тем самым они побеждали и побеждают» [3, с. 345]. «Потенциальные враги, таким образом, были лишь «мятежниками», с его точки зрения».
Верховная власть была в руках хана, высокопоставленным чиновникам было запрещено добиваться титулов, им почиталось благородным относиться безразлично к любым хвалебным именам или званиям. Мы согласны с Г. Вернадским в том, что эта заповедь имела целью сохранить достоинство монгольского императорского титула выше других правителей; предотвратить вражду аристократии, но не из-за племенных обычаев «царствования» [3, с. 346].
Есть несколько существенных черт, которые, на наш взгляд, отличают Монгольскую империю от обычного правления. Одной из них было базовое восприятие нации. Вернадский написал:
«С политической точки зрения только монголы составляли нацию согласно закону Монгольской империи, и только в течение короткого периода междуцарствия нация смогла установить свою власть, избрав нового хана. Понятие нации, представленное на курултае, было сформировано племенными и клановыми представлениями. Именно из-за их тесной связи с кланом хана монгольские племена и кланы считались авторитетными в вопросах избрания нового хана....Социальная организация монгольских и турецких племен, основанная на клановых обычаях, ее внутренние обычаи и привычки регулировались обычным правом. Такой закон вряд ли мог быть нарушен ханом, и мы находим мало упоминаний об этом предмете в существующих фрагментах Ясы» [3, с. 347]. Второй особенностью является обязанность военной службы. Рассматривая социальную организацию монголов XIII в., часто говорят о племенных, клановых или территориальных группах. Фактически Империя была построена по принципу всеобщей военной обязанности. Я бы назвал это главным краеугольным камнем новой организации, которая должна отличать нацию от кочевых племенных групп. «У каждого есть своя особая позиция на службе, с которой он был связан и от которой он не мог уклониться» [3]. Это была не просто временная служба, а пожизненная обязанность жить и служить в своем отряде и платить налоги. Отряды были разделены на мянгат (тысячи), зуут (сотни) и арбату (десятки), которые определяли их как территориальную, военную и налоговую единицы. «Ни один человек из тысячи или из ста, или из десяти, в которых он был посчитан, не должен уходить в другое место; если он сделает это, он будет убит, а также начальник [подразделения], принявший его» [3]. Те, кто не ходил на войны, были вынуждены в определенные сезоны года много дней работать в государственных структурах или выполнять какую-либо общественную работу для государства и один день в неделю наниматься на службу. В частности, женщины должны были заменить мужчин в семье в случае невыполнения им последней обязанности, служба должна была быть основана на равенстве: строгая дисциплина, равное количество работы в команде и равное питание; все это было обычной потребностью. Вступает в члены группы, однако существует определенный иммунитет для религиозных организаций, врачей, техников, ремесленников и т. д.
Поскольку территориальное или этническое разделение было вторым после военной службы, которое также было основой армейской структуры, уставы, которые регулировали военные вопросы, были основополагающими элементами повседневной деятельности общества. Вся нация напоминала одну большую армию. Поэтому всеобщая военная подготовка, тотальная и эффективная мобилизация, строгое соблюдение военной дисциплины были главной целью законодательства. Эти нормы повседневной деятельности нашли свое отражение, в частности, в Уставе об охоте. Можно спросить, почему в национальной правовой системе законы об охоте должны играть такую существенную роль, что эти законы включаются в содержание документа, который носит конституционный характер? В стране, постоянно воюющей, где большая часть национального дохода поступала от военных трофеев, и военное правление регулировало ее повседневную деятельность, где почти 8 месяцев беспрерывного холода в течение всего года и где тысячи (если не миллионы) диких газелей и антилоп были доступны для потребления, охота должна была служить многим целям. Вернадский писал: «Великая зимняя облавная охота занимала первостепенное место в жизни монголов. Это был важный экономический, социальный и государственный институт. Большая охота требовала участия целого армейского корпуса (чтобы загонять и окружать стада диких животных). Люди в ходе армейских маневров должны были организовать в военном формировании в два крыла, которые в конечном итоге должны были состыковаться. Круг должен был сходиться постепенно, вся кампания требовала от одного до трех месяцев игры до встречи в фиксированном месте внутреннего круга» [3, с. 351].
Стадо тысяч животных оказывало огромное давление на тех, кто их загонял. Принимая во внимание, что любая оплошность была не только халатностью или нарушением дисциплины, но и прекращением поставок продовольствия, «[во время охоты] любая халатность или нарушение дисциплины со стороны любого офицера или мужчины подвергались суровому наказанию» [3]. Еще одна интересная особенность предписаний устава заключалась в том, что облава не должна была уничтожить всю добычу; часть из них должна была быть освобождена с целью размножения. Здесь проблемы для будущих поставок продовольствия были доминирующими мотивами, а не экологическими.
Поддержание мира и порядка было главной целью внутренней политики администрации. Поскольку города и дороги были основой экономической и торговой деятельности империи, Чингисхан распорядился, чтобы они были свободны и открыты для купцов и торговцев с максимальной безопасностью. В соответствии с этим одной из важнейших задач правительства стала организация ямских станций вдоль имперских дорог (конных прогонов). Каждая станция была снабжена лошадьми, кормом и едой для официальных путешественников через каждые два тумэна (десять тысяч). Эта услуга считалась одной из налоговых сборов и строго соблюдалась. «Их Засаг» содержал сложный закон о налогообложении. Джувейни приводит следующее:
«После того как страны и население были подчинены господству [монголов], была проведена перепись, во время которой были введены квоты по группам в десять, сто тысяч человек для набора армии, сбора пошлин на содержание почтовой службы, сбора скота и корма, не говоря уже о налогах в деньгах. Кроме этого, были возложены на всех поголовно налоги, называемые губчуур — вся нация монголов будет помогать своим правителям каждый год дарами табунов, сокровищ, лошадей, овец и молока, и даже шерстяной одеждой» [3, с. 353]. В дополнение к налогообложению населения также ввели отработки. Что касается финансового обеспечения армии, офицеры и солдаты должны были иметь при себе ло- шадей, оружие и некоторое количество продовольственных пайков. «Во время похода монгольское войско обеспечивалось едой от населения захваченных территорий и добычей» [3].
Уголовное право
Вернадский привел на основе источников следующую классификацию преступлений [3]:
-
(а) преступления против религии, морали и установившихся обычаев: вмешательство в свободу любого из религиозных конфессий; преднамеренная ложь (в судебном процессе); ритуальные нарушения: загрязнение воды и очага; забой животных вопреки установленным правилам; прелюбодеяние; содомия.
-
(б) правонарушения против хана и государства: нарушение устава обязательной службы, особенно высшими чинами в отношении хана; превращение свободного человека монгольской нации в свою прислугу (видимо, для того чтобы не трогать тех, кто подходит для военной службы); злоупотребление служебным положением гражданскими и военными должностными лицами; нарушение военной дисциплины; нарушение «Их Засаг».
-
(в) преступления против жизни и интересов частных лиц: убийство; посягательства на чужих рабов и пленников; воровство лошадей и крупного рогатого скота; мошенническое банкротство.
Дэндэв упомянул интересный факт о краже лошадей. Он утверждает, что в «Их Засаг» дается определение «хорошей лошади». Оно было важным, потому что за кражу хорошей лошади можно было приговорить к смерти. Таким образом, «хорошая лошадь» является «любой лошадью, которая может работать так быстро, как будто она имеет свою полную силу, даже если на самом деле она имеет среднюю или меньшую силу» [3].
Уголовная политика кажется справедливой, хотя применялось жестокое наказание. Основным видом наказания был, конечно же, приговор к смерти. Это было предписано почти для всех типов тяжких преступлений. В некоторых случаях ответственность несли не только правонарушитель, но и его жена и дети. Другими наказаниями были тюремное заключение, депортация, понижение в должности, причинение боли, штраф и «заявление под присягой».
Судебная процедура
Процедура требовала трех свидетелей, чтобы считать заявление действительным. Дэндэв писал:
«Когда Чингисхан обнародовал «Их Засаг», он назначил судью Шихи-хутуга надзирать [за его осуществлением], чтобы раскрыть правду и мотивы дела, чтобы сообщить каждому признанному человеку причину и доказательства, почему он был осужден, чтобы гарантировать, что каждое дело было рассмотрено на справедливой основе. После этого Шихихутуг заявил, что каждое заявление, сделанное под угрозой, запугиванием или пытками, должно считаться необоснованным и неправдивым. Он также запрещал применение пыток и нанесение ран человеческому телу для установления признания или истины, если это не связано с наказанием [уже] осужденного» [8, с. 41].
Предположительно, было запрещено применять закон и разрешать споры кому-либо, кроме назначенных судей. То же самое относится к дворянам и высокопоставленным чиновникам, они не могут подавать заявления о спорах кому-то ни было, кроме самого хана. Вероятно, это было одним из средств предотвращения любой «дворцовой интриги». Суд над членами ханского рода был передан в Верховный суд этого клана, сформированный старейшинами Золотого рода. Не было смертного приговора, пока один из членов не покаялся четыре раза, только тогда его судьба решалась собранием клана.
В ряде монгольских источников, в том числе в «Тайной истории монголов», упоминается имя судьи Шихихутуга. Как предположил Г. Вернадский, «вопросы судебной власти и организации судов, по-видимому, были переданы Чингисханом на усмотрение старейшин кланов, религиозных организаций, традиционных сообществ, городских общин (где таковые существовали) и местных чиновников» [3, с. 358]. Между двумя вышеизложенными сведениями имеются некоторые противоречия. Поэтому кажется, что единственная национальная власть заргач (судья) в соответствии с «Их Засаг» была создана специально, чтобы подчеркнуть его верховенство, сохранить закон в неприкосновенности, и контролировать послушание. Другая версия перевода слова zargach может быть «хранитель». В статье Вернадского упоминалось, что «сын [Чингисхана] Цагаа-тай был назначен хранителем Ясы» [3]. «Если это так, то Цагаатай, очевидно, получил работу от Шихихутуга».
Чингисхан строго предупреждал, что, если Их Засаг не будет сохранен, государство распадется и рухнет. Каждый новый хан, независимо от того, правит ли он империей в целом или собственным уделом, должен был перед началом своего правления, подтвердить действительность Их Засаг. Более того, потомки Чингисхана должны были собираться один раз в год вместе с высшими чинами каждого царства, чтобы удостовериться, что ни один правитель из Золотого рода Чингисхана не нарушил «Их За-саг» в течение истекшего срока. Как указал Дэндэв: «Было [строгое требование к [дворянам и генералам]] собираться в начале и конце года и прислушиваться к приказам и наставлениям Чингисхана. Тем, кто не слушал [приказов и указаний], не было разрешено управлять гражданскими лицами или армией» [8, с. 26].
Таким образом невозможно утверждать, что такой обширный спектр юридических действий не был основан на каком-либо письменном акте и настаивать на том, что государственные деятели руководствовались только устными «сообщениями» юридического характера. По-видимому, сам «Их Засаг» играл роль конституционного акта того времени, который охватывал перепись, налогообложение, призыв и управление на подконтрольных территориях. Каково было точное намерение Чингисхана, когда он провозгласил закон, неизвестно, но если учесть тот факт, что он часто проводил консультации с образованными людьми, представителями религиозных организаций и другими, можно предположить, что он был осведомлен о концепции государства, конституции и правовых системах. Вероятнее всего, он знал, что старый традиционный обычай, который применялся в жизни и делах племен, разбросанных по всей монгольской территории, больше не находил применения в управлении расширяющейся империей, и понимал необходимость создания нового и более мощного инструмента. Исходя из этого, он основал институт Яса, не обязательно с конституционной формой. Представляется, что первый выпуск «Их засаг» был объявлен священным, потому что веления были установлены самим Чингисханом, а позже все оригинальные копии были уничтожены в результате постоянных кровопролитных конфликтов и смены штаба хана. Затем было выпущено много последующих законов, некоторые самим Чингисханом, но не вошедшие в «Их Засаг», а некоторые от имени его преемников. Они были обобщены и добавлены по мере того, как они исходили от ханов в виде законов, прецедентов и поучительных историй, называемых «билик». Из-за постоянного движения ханы не имели желания и возможности систематизировать их, и эта обязанность была возложена на должностных лиц, которые трудились в территориальных и местных органах власти и должны были заниматься только местными делами, следовательно, ограничены в своей юрисдикции. На центральном уровне вначале Шихи-Хутуг и Цагаатай смогли контролировать процесс систематизации законов, но позже от него отказались из-за растущей децентрализации и тенденции концентрироваться на местных правилах и кодексах. Таким образом, великая инициатива, однажды выдвинутая Чингисханом, утратила свою динамику и приняла совершенно иное направление: укрепление местных ханств. Однако, как писал Дэндэв, «благодаря своей мудрой политике и изощренной философии он [Чингисхан] смог когда-то сделать монгольскую нацию самой большой в мире, и он дал понять, что его сборник законов был разрабо- тан, чтобы развивать и защищать нацию, чтобы сделать ее людей более сильными и цивилизованными, способствующими росту экономики. Самой важной его чертой, которая выделяет его среди других монархов, была его способность направлять умы и усилия различных людей к [целям] нации» [8, с. 26].
Законы Юаня, Золотой Орды и Ильханства
После смерти Чингисхана в 1227 г., империя была разделена между его сыновьями. Таким образом, начался фактический раскол монгольской нации. Соответственно, как отмечалось ранее, правовая система Империи имела тенденцию к локализации. Тем не менее новые государства Юань, Золотая Орда и Ильханат (или Улус Цагаатая) продолжали использовать «Их Засаг» в качестве основного закона или высшего свода законов. Например, хан Золотой Орды Бату провозгласил: «Кто нарушит «Их За-саг», тот потеряет голову» [3, с. 358]. Новое законодательство не должно было противоречить принципам «Их Засаг». Закон действовал на территории самой Монголии, наряду с Золотой Ордой и Ильханством (Хорезм и Персия), но в Северном и Южном Китае, где к концу XIII в. Хубилай-хан объявил о создании династии Юань, произошли изменения в правовой системе.
Кодексы Великого Юаня
Когда в 1211 г. Чингисхан оккупировал Китай1, он немедленно приказал новым подданным следовать «Их Засаг». До оккупации, по словам Филиппа М. Чен [12, с. 8] и Пола Чэнь [15, с. 3], Китай на протяжении веков расширял и совершенствовал правовые кодексы [3, с. 359]. Пол Чэнь писал: «[Их Засаг] не применялся универсально в качестве кодекса ко всем племенам, находящимся под монгольским владычеством, но в силу своего авторитетного характера он действительно служил основным легальным источником в Китае на период, следующий сразу после падения династии Сун. Поскольку к китайскому обществу вскоре оказалось слишком сложно применять монгольское обычное право, значение «Их Засаг» постепенно уменьшалось, и к концу XIII в., как источник права, кажется, он имеет минимальное значение» [15, с. 3].
На наш взгляд, «Их Засаг» утратил свое значение не потому, что использовать обычное право или к китайскому обществу было сложно, а потому, что постепенно отходили от понятия «единая великая империя», после смерти Чингисхана последовал меньший интерес к «центральному кодексу» и больше внимания уделялось внутренним правилам. По этой причине китайские чиновники начали рассматривать новую форму кодификации, отличную от предыдущих кодексов. Прежде всего необходимо иметь четкое представление о том, был ли это период истории монгольского государства или просто продолжение истории оккупированных стран: России, Китая, Персии, Индии, Кореи и т. д. Очевидно, это зависит от того, какова политическая позиция исследователя или тех, кто заинтересован в изучении этой темы в частности. Намереваясь не рассматривать политические позиции господина Поля Чэнь, тем не менее, приведены его суждения о роли монголов в истории китайских правовых институтов.
Однако, рассматривая китайскую цивилизацию, многие историки часто игнорируют или недооценивают значение правовых институтов Юаня. Во многих учебниках и исследовательских работах внезапно обнаруживается переход от периода династии Сун сразу к периоду династии Мин. В некоторых работах юаньское законодательство рассматривается лишь кратко, исходя из очевидного предположения о том, что знание юаньского закона несущественно для понимания китайской правовой традиции, в частности, и китайской цивилизации в целом1 [15, с. 3]. Среди некоторых ученых распространено мнение, что вклад Монголии в китайскую цивилизацию в целом и правовую традицию Китая в частности был чрезвычайно ограничен. Например, профессор Бодде и профессор Моррис предположили, что в период Юань внесены лишь незначительные изменения законами в традиции, сформированные в эпоху Тан. Ссылаясь на В. А. Рязановского, они утверждали: «Хотя от монголов, учитывая их весьма различное культурное происхождение, можно было ожидать кардинальных изменений в законодательстве Китая, когда они правили Китаем. Однако их главный вклад, по-видимому, на самом деле заключался в использовании чисел, заканчивающихся на семь вместо десятков, при указании количества ударов или других наказаний (7, 17 и так далее, вместо 10, 20, 30) [15, с. 53]. Безусловно, оценка масштаба и значимости вклада часто зависит от меры, которую выбирают. Однако, по справедливости в отношении монголов и их китайских партнеров, очевидно, что вклад государства Юань в китайскую правовую традицию был более значительным нежели просто «использование чисел, оканчивающихся на семерки», при наказании» [15].
Как мы увидим позже, процесс кодификации и развития правовой системы, проводимый монгольскими ханами, был медленным. Пол Чэнь писал, что за 60 лет между 1211 и 1271 гг. китайские чиновники неодно- кратно запрашивали, а затем настаивали на обнародовании новых кодексов. Ханы, вероятно, в большинстве случаев полагались на «Их Засаг» и были довольны текущими приказами, издаваемыми время от времени, и стремились следовать велениям Чингисхана, чтобы сохранить закон в целости и сохранности. Одним из первых указов, упомянутых им, был закон Чингисхана, датируемый между 1211–1212 гг., состоящий из пяти разделов. «Они запретили массовые убийства во время военных кампаний, они также заявили, что только серьезные преступления должны были быть наказаны смертью, за другие преступления, должны были быть наказаны только избиением бамбуковыми палками» [15].
Как упоминалось ранее, последний кодекс китайской династии Тай-хо Лу1, со времени его обнародования в 1201–1271 гг. широко использовался местными китайскими общинами. Он состоял из 12 разделов: 1) термины и общие принципы2 [15, с. 11]; 2) имперская гвардия и запреты; 3) административный регламент; 4) семьи и браки; 5) конюшни и сокровища; 6) каторжные работы; 7) кражи и насилие; 8) конфликты и иски; 9) обман и мошенничество; 10) разные Уставы; 11) аресты и побеги; 12) суд и заключение в тюрьму [15, с. 12]. Причина, по которой он был отменен в 1271 г., заключалась в том, что «в политическом отношении не было необходимости продолжать использовать кодекс бывшей династии» [15, с. 13].
После отмены вышеуказанного кодекса, обеспокоенные китайские чиновники в 1271, 1274–1275 и 1287–1291 гг. несколько раз предлагали разработать и опубликовать новый кодекс. Начиная с 1262 г., были представлены некоторые конкретные проекты, но Хубилай-хан каждый раз не торопился. В связи с этим стоит упомянуть два факта. В 1273 г. Хубилай-хан собрал монгольских министров и сказал им: «Недавно [два китайских чиновника] подготовили новый кодекс, и я лично его прочитал. Это кодекс, который можно использовать, но вы, люди, должны тщательно его изучить, чтобы увидеть, один или два [уставы] могут быть добавлены или вычтены. Пусть эти пункты будут записаны и обсуждены для будущего осуществления» [15, с. 15].. «С тех пор на подготовку кодекса было потрачено более десяти лет, но он не был обнародован. На наш взгляд, это показывает, что, несмотря на частные интересы, выраженные Хубилаем-ханом, министры были главной силой, препятствующей обнародованию».
Это подтверждается таким фактом, что самый могущественный министр Сэнгэс 1287 г. до своей смерти в 1291 г. «усилил стремление к единому кодексу» из-за своей коррупционной практики и однажды даже «заблокировал проект постановления, целью которого было остановить коррупционные тенденции в работе правительства». В 1291 г. правый вицеминистр государственного совета Юань Хо Юнг-цу, каким-то образом репрессированный Сэнгэ, разработал кодекс, содержащий 10 разделов, и этот кодекс был обнародован. Новый кодекс Великого Юаня (кодекс юаня) стал, таким образом, первым существенным кодексом династии Юань,1 состоящий из 10 разделов: 1) публичные нормативные акты; 2) стандарт выбора; 3) управление народом; 4) управление финансами; 5) налоги; 6) сборы; 7) склады; 8) строительство и производство; 9) предотвращение краж; 10) расследование дел [15, с. 18]. Опять же оригинал не обнаружили, однако Пол Чэнь и Ниида Нобору провели исследования и смогли найти 95 и 96 упоминаний в других источниках2.
Поскольку существует классификации кодексов Монголии, Китая и Юаня, хотя они основаны на абстрактном анализе, но можно сравнить их, чтобы увидеть, хотя бы приблизительно, насколько монгольские или китайские традиции были содержанием Кодекса Юаня. Как мы видим, между «Тайхо Лу» и «Их Засаг» есть существенная разница. Важные принципы верховной власти, международного права, военных законов и законов об охоте были опущены. С одной стороны, эти принципы, вероятно, должны были находиться только в юрисдикции «Их Засаг», с другой, должны были быть чисто «монгольскими». Также в Кодексе Юаня не упоминались принципы семейного права и наследования. Очевидно, их оставили регулировать конфуцианским учением, который излагал семейные ценности и порядок наследования только среди китайских общин.
Однако, несмотря на такое примерное сравнение, можно предположить, что кодекс Юаня имел локальный, автономный характер и был явно разработан для управления китайским сообществом, а не всей империей. Поскольку в исследовании больше рассматривается влияние Монголии в этот период, ограничимся вопросами, которые связаны с правовым мышлением и развитием законов монгольских ханов.
После смерти Хубилай-хана в 1294 г. Темур-хан инициировал обновление кодексов. Есть запись его разговора с Хо Чжун Цу: «Уставы и указы хорошие институты. Чем раньше они будут унифицированы, тем лучше для нас. Между древними временами и сегодняшним днем существуют различия, которые не должны быть скопированы, пусть то, что подходит для сегодняшнего дня, будут приняты» [15, с. 18].
Однако, как сообщает Пол Чэнь, не было официально обнародованного кодекса, за исключением текста «Учреждения царствования Татэ» в 1305 г. [15, с. 19]. Когда Хулуг-хан взошел на престол в 1307 г., чиновники обратили его внимание на необходимость новой кодификации:
«Уставы и постановления являются неотложными вопросами для управления государством и должны быть изменены или расширены в соответствии с обстоятельствами. Однажды Хубилай-хан издал указ, согласно которому Тай-хо-лу Чин не должен применяться и старшие министры для принятия законов должны обратиться к [законам] древних и нынешних времен, чтобы создать новые правовые институты. Пока это не было выполнено. Мы, ваши подданные, считаем, что законы и постановления являются серьезным вопросом и не должны обсуждаться легко. [Поэтому мы просим, чтобы статьи и кодексы, примененные после вступления в должность Хубилай-хана на престол, были рассмотрены и объединены [в один кодекс], чтобы [его] можно было соблюдать и применять на практике» [15, с. 22].
Хулуг-хан признал, что работы должны быть начаты, но, очевидно, скорость этого процесса была недостаточной, поскольку в 1309 г. официальные лица вновь настаивали:
«Территория [нашей] страны огромна, и людей много, что превышает то, что было в предыдущих династиях. Для мер и более поздних кодексов, а также прецедентов [нашего] различного господства не объединены; и законодательствующие бюрократы навязывают суровость [наказания] по желанию. [Поэтому] мы просим, чтобы из 9000 пунктов правительственных постановлений, учрежденных после Хубилай-хана, были вырезаны разнообразные части, чтобы они могли привести к соединению и объединению в постоянное учреждение» [15, с. 23].
Хулуг-хан дал разрешение на это предложение, но умер в 1311 г., и его преемник Буянту-хан был более изобретателен и создал некоторые новые институты, приказав им продолжить разработку устава. Как подчеркивает Пол Чэнь, Буян-хан был первым ханом, возродившим старую китайскую систему отбора государственных служащих, «экзамен» [15, с. 24]. Также во времена его правления не было ни одного правового акта, кроме одного собрания судебных решений. Династия Юань завер- шилась в правление Гэгэн-хана, который вступил на престол в 1320 г. Последний мобилизовал всех своих чиновников и государственных служащих и в 1321 г. утвердил «Всеобъемлющие институты Великого Юаня», и кодекс был завершен для использования [15, с. 25]. Он состоял из четырех разделов: 1) правила декрета (94 пункта); 2) статьи и кодексы (1151 наименование); 3) прецеденты (717 пунктов); 4) разное (557 наименований). В связи с этим следует отметить, что в своей работе Дэндэв упомянул, что кодекс Юаня состоит из трех разделов: 1) основополагающий закон (94 пункта); инструктивное право (1157 ед.); и 3) правила вынесения приговора (717 пунктов). Понятно, что здесь Дэндэв перепутал два документа, между которыми была разница в 30 лет. Когда Дэндэв написал свою книгу, в 1930 г. копия документа была только что опубликована в Пекине. Это может быть причиной путаницы, но тем не менее трудно доказать, что последний был улучшенной версией Юаньского кодекса.
Самым интересным объектом, упомянутым в отчете Поля Чэнь, является сборник институтов династии Юань 1322 г. Он писал: «Текст состоит из огромного собрания законов, указов, прецедентов, казусов и бюрократических примечаний, таким образом отражая богатое разнообразие правовой и общественной жизни династии Юань» [15, с. 31].
Поскольку он указал, что текст является только сохранившимся документом, он ограничил свое обсуждение документа, упомянув два факта.
Во-первых, текст состоит из 10 разделов: 1) декреты; 2) священное правительство; 3) судебные принципы; 4) принципы надзора; 5) совет по гражданским делам 6) совет по доходам и населению; 7) совет по обрядам; 8) совет по военным вопросам; 9) совет по наказаниям; 10) совет общественных работ.
Во-вторых, текст часто критиковали китайцы за то, что «здесь смешаны разговорный язык, общепринятые речевые обороты, вульгарные выражения, и, будучи крошечным, простоватый и запутанный» [15, с. 32]. 80 процентов текста документа было переведено непосредственно с монгольских оригиналов, поэтому подвергся такой критике. Это означает, что, вопреки мнению в упомянутых китайских работах, на самом деле у монгольских чиновников было много документов. Поскольку тексты в настоящее время, к сожалению, недоступны, ограничим обсуждение последним высказыванием. Надеемся, что в будущем текст будет изучен монгольскими учеными и юристами.
Дальнейшее развитие монгольского права происходило в правления ханов Йесун Тумур и Туг Тумур. В 1324 г. Йесун Тумур-хан распорядился разослать копии «Всеобъемлющих институтов великого Юаня», оказав таким образом услугу китайскому тексту [15, с. 33]. Туг Тумур-хан при- казал в 1328 г. составить новый текст «Великие государственные институты», но в 1331 г., когда работа была завершена, китайские чиновники заверили, что текст идентичен Кодексу династии Тан. Император не скрывал своего гнева и, очевидно, текст просуществовал недолго. Последний факт показывает, что правовое мышление китайских чиновников смещалось в сторону старой китайской традиционной философии, их монгольские суверены больше не были готовы следовать убеждению китайских подданных. Тем не менее их усилия привели к обнародованию последнего кодекса династии Юань, кодекс Чи Чена Тоган Тумур-хана в 1346 г., в котором было «150 приказов, 1700 статей и 1050 прецедентов» [15, с. 38]. Это было продолжением «Великих институтов государственного управления», и оно было основным источником корейского кодекса 1391 г. Между тем рост восстаний против монгольской оккупации, начиная с 1360 г. привел к реформе политической и правовой системы Юаня.
Уголовная система Юаня: вопросы монгольского влияния
Еще в 1260 г. Хубилай-хан указал своим чиновникам, что любое дело, связанное с тяжким преступлением, должно быть тщательно рассмотрено до того, как будет назначена смертная казнь. В 1278 г., например, когда около 190 человек должны были быть преданы смерти, Хубилай-хан вмешался и сказал: «Заключенные не стадо баранов. Как они могут быть внезапно казнены? Это правильно? Они должны быть вместо этого порабощены и направлены на государственные прииски добывать золото» [15, с. 46].
Согласно Чэнь, в кодексе Тан было 233 преступления, наказуемых смертью, в кодексе Сунга — 293, а в кодексе Мин — 282. При династии Юань — 135 [15, с. 43]. Между 1261 и 1306 гг. минимальное количество казненных в год было 3 (в 1302 г.), максимальное — 278 (в 1283 г.) [15, с. 45]. Однако снисходительность в наказании обусловлена главным образом «широким наложением финансового бремени» [15, с. 55], что отличало монгольскую систему правосудия. Пожизненное изгнание не практиковалось широко, потому что монголы «не имели представлений об ограничении свободы как о мере наказания» [15, с. 47]. «Что касается ка- торжных работ, то это допускалось с небольшой разницей и сочеталось с ударами, а избиение применялось почти без изменений, кроме количества ударов. Монголы ввели дополнительные расходы на похороны жертв и расходы на питание. Однако система материального возмещения не была уникальной для монголов, потому что она использовались почти везде. Еще одна особенность включает в себя принцип noxaededito»1, согласно которому «если раб совершил преступление, такие как кража или грабеж, или будут причинены им травмы или повреждения, хозяин может либо отказаться от раба или откупиться» [15, с. 64].
Также впервые в Кодексе Юаня были введены штрафы, выплачиваемые скотом за такие преступления, как кража домашних животных, лошади или иного имущества.
Пол Чэнь, говоря о существовании дополнительного физического наказания в юаньский период, указал, что Хубилай-хан отверг идею об отсечении рук или нанесении татуировок, потому что он думал, что это исходит из исламского закона, тем не менее, он привел некоторые цитаты, раскрывающие, что такое наказание применялось. Например, преступник, осужденный за повторно совершенную кражу или кражу со взломом, получал отметки о первом и втором преступлении на плече или на шее и должен был обслуживать «вспомогательную полицию», которая имела обязанность «информировать власти о других ворах или нежелательных элементах» [15, с. 64]. «Другой версией такой службы был «комиссар порабощенных заключенных», где использовали рабов для поимки грабителей и воров. Это были уникальные монгольские наказания. Однако татуировка была применима только в отношении китайских преступников. Монголы были освобождены от этой практики вместе с монахами и священниками, а также в случае кражи среди родственников» [15, с. 67].
Отправление правосудия: влияние Монголии
Одним из новшеств монголов в традиционной системе правосудия Китая и Ильханства было учреждение «совместного слушания судебных и административных чиновников». Это был еще один мощный бюрократический инструмент, но он также служил средством освобождения монголов от большинства наказаний.
Местные судьи выносили решения по мелким преступлениям, а за тяжкие преступления осуждали на более высоком уровне. На местах судебная и территориальная администрации были объединены. Однако, на наш взгляд, территориальные единицы были почти такими же, как в предыдущие китайские династии, включая 11 провинций Юаня, в то время как местные домохозяйства были организованы в налоговые и призывные единицы в соответствии с «Их Засаг». Как указывалось в отчетах Пола Чена [15, с. 71], каждые 99 домохозяйств должны были выбрать 1 домохозяйство, во главе с одним взрослым, назвавшимся «лучником», выполнявшим функции полицейского, а остальные домохозяйства должны были разделить его домашние обязанности между собой [15, с. 72]. Затем лучники находились под предводительством комиссара полиции, который вместе с магистратом, помощником магистрата, хранителем документов и официальными лицами находился под наблюдением даругачи, который, в свою очередь, возглавлял подразделение на местах. Даругачи, как правило, были монголами, которым помогали китайские клерки. По словам Джей Джей Сандерса, они также были представлены другими национальностями, и для этого были причины. Он писал:
«Даже Хубилай, которому приписывают глубокое восхищение китайской культурой, был осторожен, исключал старых китайских чиновников из любой, кроме подчиненной, должности, и во время его правления Китаем управляли мусульмане из арабских и персидских земель, несторианские христиане из тюркоязычных народов, и европейцы любят упоминать Марко Поло» [18, с. 49]. Неспособность арестовать вора или грабителя в течение одного месяца влекла за собой 7 или 17 ударов легкой палкой с возрастающей последовательностью в течение последующих месяцев, и успех был отмечен. Таким образом, лучнику пришлось широко использовать «вспомогательную полицию» или информаторов [15, с. 72].
Важной особенностью пенитенциарной системы было то, что руководители тюрем назначались из центра, и в случае необходимости местный судья должен был контролировать тюремных чиновников. В любом случае местная администрация не имела права контролировать тюрьмы.
Судья председательствовал на уровне Лу (второй высокий уровень снизу) и занимался только судебными делами. Они должны были кон- сультироваться по всем вопросам с местной совместной конференцией и больше не имели права пытать подозреваемых, если не было подтверждающих доказательств, а в случае существования последних они имели ограниченную силу для пыток, т.е. они должны были проконсультироваться с конференцией, прежде чем пытать преступников [15, с. 76].
Разрешение этнических споров
Тенденция решать дела и споры внутри определенной этнической группы, которая была распространена в Китае, наблюдалась и в период династии Юань. «Принцип личности» был руководящим принципом для рассмотрения случаев с участием представителей разных национальностей. В 1272 г. Великое бюро по делам императорского рода было уполномочено решать дела монголов, и было создано Бюро попечительства, чтобы обращаться к жителям Центральной Азии [15, с. 82].
Например, в случае кражи или грабежа китайскому преступнику наносили татуировку в дополнение к назначению основного наказания, тогда как такое наказание татуировкой не накладывалось на монгола или среднеазиата. Если судья назначит нанести татуировку монголу, он должен был быть наказан избиением 77 ударами тяжелой палкой и удален со своего поста, кроме того, нанесенная татуировка должна была быть стерта [15, с. 83].
С точки зрения Поля Чена, вопрос этнической дискриминации, как описано ранее, основывался главным образом на соблюдении национальных традиций, и не возникал преднамеренно. Тем не менее, согласно другому отчету Поля Чена и разных исследователей монгольского права, существовала определенная степень дискриминации, которая была отражена в законе. Их Засаг провозгласил:
«В случае убийства можно выкупить себя, заплатив в наказание штраф: за мусульманина — 40 золотых монет и за китайца — одного осла» [15, с. 52]. Или, в другом случае, китайцам было запрещено сопротивляться монгольским солдатам или офицерам армии [15, с. 85].
Все другие правовые споры между китайцами, монголами и выходцами из Центральной Азии разрешались на совместных конференциях представителей этнических групп практически во всех судебных инстанциях [15, с. 83].
Золотая Орда: закон и режим тирании
Большинство русских историков и ученых, как и их коллеги из Китая, часто оставляли без рассмотрения период монгольского владычества. Михаил Чернявский заметил: «Там, кажется, преобладало неясное желание избавиться, чтобы обойти весь вопрос как можно быстрее» [14, с. 92].
Не думаем, что какая-либо политическая мотивация была задействована, скорее, монгольское влияние было охарактеризовано как «незначи- тельное или совершенно вредное» [4], они предпочитали не вовлекать в незначительные детали. Поразительно даже то, что советские историки и правоведы занимали одинаковую позицию, несмотря на якобы дружбу между двумя странами в течение последних 70 лет, между 1921–1991 гг. Но для монгольского права это еще один переломный момент в правовом развитии нации.
Бату-хан, двоюродный брат Угэдэй-хана, начал свое наступление против русских князей в 1229 г. Между 1229 и 1243 гг. были многочисленные нападения на русские города и бесчисленные убийства. После каждой оккупации монголо-татарские захватчики проводили перепись населения, создавали десятки, сотни, тысячи и десять тысяч единиц домашнего хозяйства и взимали огромные налоги — «дань», которые собирали раз в год. За исключением налогообложения, единственными прямыми юридическими действиями, предпринятыми монгольскими правителями Золотой Орды, по-видимому, являются ханские зарлиг (указ), или ярлыки, как указано в русских источниках, на правление русских князей и проведение ханских судов, когда между русскими князьями возникали споры относительно места. В 1243 г. Великому князю Ярославскому Владимиру впервые пришлось отправиться в ставку Угэдэй-хана, чтобы стать «главой всех князей Руси». Князь, державший ярлык, изданный самим ханом, был единственным законным правителем известной части России. Поэтому каждый новый князь должен был посетить хана, прежде чем получить его ярлык. В России было немного княжеств или вотчин, и их монгольские правители выдавали по их просьбе ярлыки каждому вновь появившемуся князю, если не было двух или более претендентов. Замечательный пример ханского суда представлен в отчете Карамзина, где был решен один такой спор:
«Когда 10-летний Василий Васильевич вступил на престол Великого княжества в 1425 г. [после смерти отца Василия Дмитриевича], его дядя Юрий Дмитриевич начал борьбу за место. После 8 лет борьбы и проволочек они, наконец, направились в штаб-квартиру Золотой Орды, а сам Махмет-хан председательствовал в суде для разрешения вопроса. Василий доказал свое право на престол, как это установлено новым правилом престолонаследия, согласно которому сын после отца, но не брат за братом должен унаследовать звание великого князя. Дядя, отвергнув правило, процитировал летописи и умалял волю [деда Василия] Дмитрия Донского, где в случае его (Юрия) смерти Василия Дмитриевича называют его преемником. Тогда один из московских чиновников боярин Иоанн встал перед Махмет-ханом и сказал: «Верховный царь! Я прошу вас позволить мне говорить от имени моего молодого князя. Юрий ищет [титул]
Великого князя по древним русским правилам, но наш император, вы лучше всех знаете наш Улус, и вы даете титул, кому пожелаете. Один требует, другой спрашивает. Какие мертвые хроники и завещания, тогда как все зависит от вашего желания, мой повелитель. По вашему желанию одобрен законопроект Василия Дмитриевича, который подарил своему сыну Московское княжество. Василий был на престоле более шести лет, но вы его не свергли, и поэтому вы признали его законным князем. Как Великий князь он приказал Юрию «водить коня князя под себя» [9, с. 123].
Эта хитрая речь нашла совершенный успех и Махмет-хан обьявил Василия Великим Князем и приказал Юрию «водить коня князя» [9, с. 123].
Русские князья постоянно воевали друг с другом, становясь добычей монгольских правителей. Когда князь присоединил некоторую часть земель своих соседей к своей вотчине, новый ярлык, подтверждающий его власть над новыми землями, был выпущен без промедления. Даже незаконно полученное место князя едва ли ставилось под сомнение монгольскими ханами. Следовательно, как мы видим, монголо-татары по сравнению с династией Юань в Китае, меньше интересовались внутренними делами русских князей, поскольку последние платили налоги в установленные сроки.
Российские исторические источники содержат ограниченную информацию об организации десятков, сотен, тысяч и десяти тысяч, но, по словам Карамзина, руководители подразделений избирались домашними хозяйствами и, следовательно, имели довольно значительное влияние на внутренние, налоговые или военные дела. Он писал: «[Главы тысяч] вызывали зависть не только чиновников, но и самих князей в связи с важностью и великолепием их достоинства» [9, с. 231]. Это подтверждается еще одним документом, приведенным Гальпериным:
«Эффективное управление Россией требовало, чтобы монголы разделили ее на районы, которые были дополнительно наложены на существующие политические разделения в России, не заменяя их или не подрывая их .... Два более надежных источника, ни один из них не русский. Первый — ярлык 1507 г., от крымского хана Менгли-Гирея, уступающего территорию польскому королю Сигизмунду I (на самом деле монголы уже давно утратили контроль над соответствующими землями). Второе — письмо Сигизмунда хану Саид-Гирею, написанное в 1540 г. Вместе они упоминали четырнадцать «тумэн» [монгольский на десять тысяч], тринадцать из них на Славянской территории — на севере-восточная Руси — и Эголдатумэн, созданная в украинской степи в середине XV века. Это официальные документы, а не литературные хроники» [4, с. 42].
«Эффективное управление Россией требовало, чтобы монголы разделили ее на районы, которые были необходимы из-за существующих политических разногласий в России, не заменяя их или не подрывая их .... Есть два более надежных источника, ни один из них не русский. Первый — ярлык от крымского хана Менгли-Гирея, датируемый 1507 г., уступающий территории польскому королю Сигизмунду I (на самом деле монголы уже давно утратили контроль над соответствующими землями). Второй — письмо Сигизмунда хану Саид-Гирею, написанное в 1540 г. Вместе они называют четырнадцать тумэнов (десять тысяч или тьма], подвластных монголам, тринадцать из них славянская территория на севере — Восточная Русь и Эголда–тьма, созданная в украинской степи в середине XV в. Это официальные документы, а не литературные хроники» [4, с. 42].
В соответствии с принципами «Их Засаг» русская церковь была не только освобождена от налогов и сборов, она также была защищена специальным ярлыком. У Карамзина мы находим факт:
«В 1313 г. епископ Русской церкви Петр сопровождал Великого князя Михаила в его поездке в штаб-квартиру Золотой Орды и вернулся с ярлыком, в котором были утверждены важные права и достижения Церкви. Хан Узбек писал: «Это мои слова всем великим, средним и нижним князьям, главам тысяч чиновников, чиновникам, клеркам, послам и курьерам, всем субъектам моей империи, где держится наша власть и наши слова правят. Русь навредила церкви, епископу Петру и его народу: епископам (архимандритам, священникам и т. д.). Их замки, дворы, фермы, земли, рыболовства, лодки, винодельни, сады, мельницы и дома свободны от всякого рода налогов и сборов, поскольку все они являются [Божьей собственностью], и эти люди молятся за нас, укрепляя нашу армию. Пусть их судит только епископ, согласно древнему закону и ярлыкам предыдущих ханов. Пусть епископ живет тихой и мирной жизнью, молитесь за нас с правильными пожеланиями без грустных мыслей. Те, кто взял [украл или ограбил] Церковь, заплатили бы в три раза, кто бросил вызов религии или навредил бы Церкви или храму, умрет» [9].
Что касается других законов России, предполагается, что не было найдено ни одного закона или кодекса, обнародованного во время монгольского владычества — от последнего известного кодекса Ярослава Мудрого до XV в. Тем не менее Карамзин привел один рассказ о «грамоте» или законе, в подлинности которого он не имел «никаких сомнений» [9, с. 143]. Закон был связан с «гражданскими делами» [9, с. 143] среди жителей Двинских губерний, которые позднее в 1397 г. вступили в Московское княжество. Карамзин отметил, что «закон не соответствует поло- жениям кодекса Ярослава Великого, предусматривающего смертный приговор за кражу, которая наказывалась в древние времена только денежным штрафом» [9, с. 145]. В этом документе смертный приговор предусматривается после третьего преступления, путем удушения. Интересной особенностью этого положения является то, что в любом случае он требует татуировки нарушителя. Как мы видели ранее, татуировка издревле применялась в Китае. Монгольские власти, возможно, ввели это наказание в России, при этом все еще освобождая от нее монголов. Наряду со штрафом, исчисляемым беличьими шкурками, один штраф предусматривает оплату овцами за порчу поля или луга. Овцы были обычной единицей бартерной торговли и платежных средств в Монголии. Поэтому вполне можно предположить, что этот способ возмещения был введен монголами в русское судопроизводство. Как предполагает Карамзин, до XIII в. русские не применяли телесные наказания, только со времен татарского ига. Также Дмитрий Донской ввел смертную казнь за мелкие преступления, «потому что он не видел лучшего инструмента для борьбы с постоянно растущим уровнем преступности» [9, с. 228].
За исключением этих нескольких случаев русские князья были, как правило, удовлетворены «короткими и расплывчатыми» наказами. Русская правда утратила достоинство и характер национального законодательства. Дворяне осуществляли судебное управление, недовольные граждане могли жаловаться на них князьям. Карамзин привел следующее суждение о правовом развитии периода:
«В целом мы не продвинулись дальше в гражданской юрисдикции, но, похоже, отступили к примитивному хамству в этой важной части государственной инфраструктуры: но вина лежит на путанице и непостоянстве внутренней администрации. Заботясь о крепости своего трона, судят людей по необходимости и ради них самих, стремившихся свести к минимуму их проблемы, совесть, клятва и естественный здравый смысл казались самым простым способом разрешения дел в соответствии с древним обычаем и без каких-либо письменных или Общих правил. Законодатель определил только один вид наказания или денежного штрафа за тяжкие преступления: убийство, воровство и т. д. Религиозный суд, основанный на Библии или каноническом законе, был не лучше гражданского суда, потому что законы Греции не подходили во многих случаях в России и часто предавались на произвол судьбы» [9, с. 241].
Законы Ильханства в XIII в. в Центральной Азии
Юрисдикцию периода Ильханства можно разделить на два этапа: до и после Газан-хана (1271-13-). Газан-хан (который сын Аргуна, который сын Абака, который сын Хулегу, который сын Гуюка, который сын Угэдэя) принял ислам в 1295 г., сразу по истечению четырех лет, когда Хубилай-хан объявил свой кодекс Юаня.
Исследователи персидской истории склонны полагать, что монгольские правители осуществляли отправление правосудия главным образом посредством яргу (вероятно, версия монгольского слова зарга, которое переводится как спор или судебный иск), а на более поздней стадии — посредством исламского суда. Как сообщает Морган, яргу введен в Персии самим Шихи-Хутугом и, как и с Золотой Ордой, «это обычно было связано с монголами или с государственными делами Монголии» [11, с. 173]. Он также указал, что решения по этим делам — йярху (постановление) были определены как «каноны правосудия» [11, с. 173]. Один пример упоминается в работе Джувейни.
«Коргуза, который был одним из старших вазиров и [заместителем налоговой администрации Туркестана в 1235 г.], отправили в Хорасан и Мазандаран, где он провел новую перепись и пересмотрел налоги. Эгду-Темур, старший сын Чин-Темура, которого Коргуз-хан обошел, и другие, по наущению Шарафа ад-Дина Кваразми, улуг-битикчи (государственный секретарь), плели интриги против него, в итоге Коргуз отправился в суд Угэдэя, чтобы ответить на их обвинения. Чинкай-Тайнал и другие амиры держали яргу, чтобы расследовать дело против Коргуза. Суд, заседавший несколько месяцев, не смог добиться примирения между двумя сторонами, пока однажды сам Угэдэй не вынес решение по делу и не рассмотрел спор сторон. Эдгу-Темур и его сторонники были невиновны; некоторые были избиты, а другие переданы Коргузу для подчинения» [11, с. 84].
Лэмбтон также привел ряд упоминаний о яргу того времени, где претензии, в основном касавшиеся земельных споров, политического инакомыслия или растраты налоговых денег среди чиновников Вазирата, были услышаны. Эти отчеты показывают, что в периоды как до, так и после Газан-хана монголы были вовлечены во внутренние дела Ильханства глубже, чем в династии Юань или Золотой орде. Характерной чертой некоторых судебных заседаний было то, что монголы связывали некоторых заявителей голыми в течение нескольких дней и допрашивали до тех пор, пока они не признавались. Что касается отправления правосудия среди мусульманского населения, то старый шариатский придворный кади все еще действовал, однако, как отметил Лэмбтон, «в какой степени решения придворных кади исполнялись правительством в первые годы монгольского господства, было не понятно» [10, с. 90]. Судя по практике местного суда в период Юань и Золотой Орды, можно сделать вывод, что местные кади в Ильханате, вероятно, также были ограничены слушанием и разрешением мелких дел и споров. Еще одним чисто монгольским новше- ством стало назначение совместных вазирей. Это была более распространенная практика иль-ханов, но если вспомнить совместные конференции в юаньский период, становится ясно, что они применялись их предками, поэтому не были новыми для монголов.
В период после Газан-хана исламский закон и его составляющие, такие как диван-и-када (исламские суды), «были усилены (или восстановлены)» [10, с. 91]. Однако монголы снова вмешались, исходя из собственных интересов. Если в период Юань местные суды были независимы, то в Ильханате монгольские чиновники имели абсолютную власть вмешиваться в дела кади. В тот период «дела между монголами, смешанные дела, то есть дела между монголом и мусульманином, и дела, которые было трудно урегулировать» [10, с. 93], должны были решаться два дня каждый месяц на совместной конференции военного губернатора (даругачи или шаха), князя или амира (малики), секретаря (битикчи), судьи (кади) и религиозных организаций («алавис и улама») Несмотря на особый характер конференции, решения принимались в соответствии с шариатом [10].
Вторым по степени влияния монголов на правосудие было то, что судей, которые должны председательствовать на таких судебных слушаниях, нужно выбирать тщательно, только тех, кто хорошо знал «Их Засаг» Чингисхана и другие ясы, а также судебные прецеденты, билики и обычаи, они должны были быть заинтересованы в выборе. При Газан-хане также предпринимались попытки составить сборники юридических документов, приказов, судебных решений и постановлений. Эти инициативы не увенчались успехом, хотя сборники были выпущены различными ханами, и сведения о них сохранились в хрониках Джувейни, Рашид адДина и других. Эти приказы в основном касаются назначения чиновников и распределения земли. В том же контексте были выпущены золотые ярлыки ордынских ханов русским князьям. Единственное отличие от русских заключалось в том, что они были выданы монгольским и иностранным чиновникам, назначенным самими монгольскими ханами. Почему так случилось? Очевидно, что основным фактором была культура этих народов, на земли которых вторглись монголы. В период Юань контроль и надзор за имперской администрацией на различных уровнях могли осуществлять монгольские даругачи, но не без частичной помощи иностранцев. И все же во времена Золотой Орды славянский народный язык, культура и религия были слишком разными, чтобы справиться с ними. Поэтому верные русские князья были чрезвычайно полезны на службе Орды. В Ильханате почти во всех частях Империи, в каждой военноадминистративной единице, за исключением нескольких территорий, монгольские даругачи и баскаки были назначены для осуществления контроля и надзора наряду с иностранными должностными лицами. По-видимому, для монголов культура и образ жизни персов казались идентичными их собственным, что позволяло им без труда участвовать в их административных делах. Единственным барьером оставался язык или общение, где иностранные чиновники помогали им их преодолевать. В связи с этим следует отметить следующее:
«[Монгольское завоевание] привело к трудному и длительному подчинению старых, оседлых территориальных государств, таких как Китай и Персия. Некоторыми покоренными народами монголы могли управлять при помощи примитивной гражданской службы, укомплектованной клерками и секретарями из уйгуров и других тюрко-монгольских народов, которые не были полностью грамотными; управление вышеназванными государствами требовало высококвалифицированной и образованной бюрократии, которой монголы не обладали или не понимали, как этими землями должным образом управлять и облагать налогом без передачи власти на местах обратно в руки чиновников. Частичное решение было найдено в щедрой занятости иностранцев. В Персии нельзя было так легко обойтись без местных чиновников, а члены старых бюрократических семей, такие как Джувейни и Рашид ад-Дин, Фазлуллах, служили ильха-нам, но здесь и персидским христианам, евреям и буддистам давали высокие министерские должности везде, где это возможно» [18, с. 49].
Как уже упоминалось, администрации, такие как Коргуз в Туркестане, назывались вазиратами, а главные чиновники — вазирями1. При монгольском правлении функции вазиря были такими же простыми, как и у русских князей или монгольских даругач в Китае: предоставлять средства правителю и его окружению. «Вазирями не осуществлялось практически никакого контроля над тем, как были потрачены эти [средства]. Безопасность государства уже не была его компетенцией. Контроль за религиозным институтом также был прекращен, по крайней мере временно, чтобы усвоить вопросы их компетенции» [10, с. 67], хотя в соответствии с исламским законодательством они должны были быть глубоко вовлечены в религиозные вопросы, включая выплату пособий религиозным лидерам и наблюдение за религиозным инакомыслием.
Таким образом, было бы неправильным предполагать, что правовая система Монгольской империи и более поздних государств не влияла на правовую практику оккупированных территорий. Изменения в правовой системе вызвали социальные изменения, что стало убедительным свидетельством того, как и почему Великая Монгольская империя, созданная Чингисханом, потерпела крушение. Помимо значительного влияния на собственное правовое мышление, монголы реализовали идеи имперской политики государства, абсолютно новые принципы налогообложения и воинской повинности и, что наиболее важно, новые способы отправления правосудия и правоприменения. Инновациями были охвачены те оседлые общества, которые подверглись монгольской оккупации. В Китае, несмотря на медленную работу монгольских ханов, в отличие от поспешности китайских чиновников, был достигнут значительный прогресс в подготовке юристов, публикации юридических книг и сборников. Пол Чэнь писал: «Таким образом, мнение некоторых современных ученых о том, что монголы, будучи варварским народом, не создали хорошую правовую систему, не является точным. На самом деле монголам, в партнерстве с китайскими чиновниками, удалось разработать одну из наиболее впечатляющих и зрелых судебных систем, которые имперский Китай когда-либо имел для отправления правосудия» [15, с. 98].
По сравнению с китайской администрацией монголы, а затем татарские ханы оставались изолированными от внутренних дел русских уделов. Это было справедливо даже в географическом плане, в то время как Хубилай-хан решил обосноваться в Пекине, но Бату-хан и его преемники не собирались двигаться в сторону Запада. Они не заботились о правопорядке внутри русских поселений или о внутренней администрации и управлении, их основной интерес заключался в эффективной организации налоговых и военных подразделений (десятки, сотни, тысячи и десять тысяч), лояльности князей и их должностных лиц, оперативном сборе дани или налогов, а также обеспечении полного призыва в армию, когда это необходимо. Карамзин писал: «Ханы только хотели быть нашими правителями на расстоянии, не вмешивались в наши гражданские дела, а требовали только серебра и послушания наших князей. В то же время так называемые послы Орды, баскаки, представлявшие хана, делали то, что они хотели, чтобы их самые низкие торговцы и бродяги обращались с нами так, как будто мы были их презренными слугами» [9, с. 228].
Насколько татаро-монгольское правление русскими уделами повлияло на правовое развитие, все еще обсуждается. Конечно, это имело значение, однако не было положительных результатов, как в Китае. По словам Карамзина, уничтожая обширные корни демократии, где в древние времена были избраны почти все князья, бояре или тысячники, иго поощряло самодержавие русских князей и царей [9] и, таким образом, содействовало единству будущей России. Ильханство или Персия были наиболее влия- тельными для самих монголов, частью их Великой империи. Вначале в Ильханате монгольские и исламские законы и даже их обычаи существовали бок о бок. С обращением Газан-хана в ислам произошли «фундаментальные изменения, и с тех пор ильханат стал персидской династией, больше не ищущей санкций извне» [10, с. 250]. Бартольд писал: «Политика примирения двух несовместимых вещей — кочевой жизни и интеллектуальной культуры — была самым слабым местом в системе Чингисхана и главной причиной ее падения» [1, с. 461].
Законы Малых Ханов
После распада империи потомки монгольских ханов все еще управляли Золотой Ордой и некоторой частью Центральной Азии, но теперь обратим внимание на саму Монголию, поскольку охваченная войной страна столкнулась с разрушением своей правовой системы и потерей ее правовых памятников. Рассмотрим наименее изученный период с точки зрения правового развития Монголии, где с конца XIV в. до 1691 г. во времена Маньчжурской империи правили 25 ханов двенадцати поколений. Сразу после падения династии Юань страна была разделена на две части: ойра-ты на западе и халхи на востоке Монголии. Единственным известным юридическим документом того времени является так называемый «Старый закон ойратов» (Хагучин чагхаза-инь бичиг). К сожалению, сейчас сохранилось только восемь статей.
Незадолго до маньчжурской аннексии, когда в 1640 г. вождь ойратов Баатур Кхунг Тайцзи (принц) собрал Великий хурал ойратов и халхинцев при дворе Джасагту-хана монголов Халхи, был обнародован новый кодекс. У кодекса было несколько названий: Yeke chaghaja-yin bichig («Великий юридический журнал»), или «Кодекс законов ойрат-монголов», или «Закон сорока монголов и четырех ойратов». Он включал сто двадцать одну статью1 [7, с. 360–361] и охватывал религиозные вопросы, отношения между аймаками, законы, касающиеся кражи скота, правила охоты, правила послепродажного обслуживания, гражданское право и уголовное право.
Кодекс уникален в двух отношениях. Во-первых, это единственный известный монгольский кодекс, обнародованный непосредственно после «Их Засаг», и, следовательно, очень вероятно, что имеет тесную связь с последним. Во-вторых, впервые было установлено, что религиозные принципы буддизма являются единственными признаваемыми принципами в монгольском обществе. Есть веская причина для такого вывода, учитывая изначально установленную веротерпимость монголов. Как отметил
Михаил Ходарковский: «Это примирение [ойратов и халхасцев] вряд ли могло быть достигнуто без кропотливого труда лам традиции Гелугпа, которые стремились консолидировать свое влияние среди ойратов и монголов, чтобы укрепить свою борьбу за власть в Тибете. Вскоре после того, как произошел хурултай, Тибет был завоеван ойратской и монгольской армиями, пятый Далай-лама был поставлен правителем, и традиция Ге-лугпа стала доминирующей в Тибете» [13, с. 42].
На наш взгляд, во всех главах кодекса было много общего с «Их За-саг». По-видимому, главная цель заключалась в том, чтобы обеспечить единство монгольских аймаков (но не племен, как это было более 400 лет назад), перед растущей угрозой со стороны династии Маньчжу-го на южных границах. Сходство между двумя памятниками прослеживается, например, в том, что упоминается одна и та же организация домашних хозяйств с делением на десятки, сотни и тысячи. Одна десятка (арбату) должна была предоставить два полностью вооруженных солдата. Еще одной яркой чертой закона является концентрация на регулировании отношений между аймаками. Они должны были быть бдительными и спешить на помощь другим, если те были в опасности, а за непредоставление информации и помощи от простого гражданина князьям и главам аймаков были предусмотрены суровые наказания, включая смертную казнь1.
Основные изменения, произошедшие в уголовном законодательстве, связаны возвращением к менее суровым наказаниям, стали чаще применяться штрафы деньгами и скотом. Основными видами наказаний были смертный приговор, ампутация (за кражу), избиение с помощью волосяных веревок и кнута, наручники на руках и ногах, отстранение от должности (применительно к руководителям подразделений, судьям и т.д.), бесчестие (надевание женских платьев на одежду тем, кто покинул поле битвы), штраф и рабство (если нечем заплатить штраф). В уголовном или гражданском процессе отмечался значительный прогресс. Например, в кодексе зафиксировано, что каждый спор должен решаться в суде (ранее истец решал судьбу ответчика).
Согласно летописям, существовал другой кодекс, но на этот раз только среди монголов к северу от Гоби, называемый «Кодексом семи знамен». Оригинальный текст правового документа не сохранился.
Монгольский закон в маньчжурский период
Вместе с военной экспансией влияние маньчжурского права в монгольских делах продолжало возрастать. В 1667 г. император Кан-си пересмотрел все законы и обнародовал новый кодекс Мэн-ку-лу-шу (Книга законов Монголии). Однако этот кодекс не подходил для всех общественных и судебных дел монголов. По этой причине в 1709 г. три главы аймаков Цэцэн-хан, Тушету-хан и Джасагту-хан установили кодекс Халха-джурам для своих районов (не считая Джунгарии, государства Западной Монголии, которое до 1760 года не находилось под управлением маньчжуров). Как отметил Жалан-Аажав, в кодекс было внесено 22 изменения и дополнения: между 1709 и 1770 гг. По его оценке, кодекс был «лучшим из монгольских правовых традиций»1. Оригинал кодекса не сохранился. Однако, несмотря на то, что ничего не осталось от более ранних кодексов монголов, по крайней мере две копии «Халха джурам» имеются в хорошем состоянии, что позволяет нам судить о его масштабах и содержании. Первоначально в нем было 8 глав, но Жалан-Аажав разделил его на 14 глав, тогда как Джагхид и Хайер упомянули 24 главы [7, с. 360– 361]. Следующие категории подлежали регулированию: дорожные станции, уголовное право, частное право, иммиграционное право, земельное и экологическое право, административное право, религия и храмы, политика и военные вопросы2. Эта система законов действовала до начала социалистической революции 1921 г., и его применение постепенно снижалось, использовалась только среди шабинаров (учеников) Джебцундамбы, последнего государственного и религиозного главы Монголии. Все положения закона имеют общую черту: тенденцию к уменьшению карательного воздействия и наказание штрафом.
Позже были попытки ввести некоторые правила в монгольскую юрисдикцию. Внук Канси, император Цянь-лун, также обнародовал новый кодекс, Мэн-ку-лу-ли (Законы Монголии), в 1741 г. В 1789 г. он составил Ли-фань юань-цзе-ли, сборник судебных решений, законов и постановлений Ли-Фань Юаня или Совета зависимостей. Этот сборник содержал некоторые ранние прецеденты в таких областях, как политика, военные вопросы, гражданское право и уголовное право. Во времена правления Цзя-цзина (1796–1820) последний кодекс был пересмотрен, и в конце периода Цинь, когда юань Ли-фан был реорганизован (1906) как Ли-фанпу, кодекс был снова изменен и назван Ли-Фан Пу Це-Ли; сравнение показывает, что их содержание почти полностью совпадает. Эта последняя работа представляет собой сборник основных законов, обнародованных в Монголии в маньчжурский период. В дополнение к этому был разработан Да-цзин хуэй-тянь. Это было обширное собрание прецедентов, комментариев и интерпретаций, которые стали для нас важны, потому что законы Ли-Фан Пу Це-Ли были довольно туманными и трудными для интерпретации. Тем не менее возникали проблемы, было необходимо сослаться на Та Чин Лу, важный общий закон династии Цин. Влияние китайского законодательства было выражено фактом усиления суровости наказания. Тем не менее во всех кодексах были специальные положения о буддизме, а ламы имели высокий уровень защиты.
На территории халхов судебные органы и администрация были представлены вместе. Дело могут рассматривать, во-первых, глава десяти домохозяйств (арбату); затем сомонные дзанги; в-третьих, залан (глава нескольких сомонов); наконец, яамун, или засаг (глава хошуна), «где было жюри из вышестоящих должностных лиц хошуна, для рассмотрения дела и вынесения решения от имени засаг»1 [7, с. 360–361]. Эта процедура, как указано в Ta-Ch'inghui-tien, предусматривает: «Судебные иски среди монголов должны быть заслушаны засагом. Если засаг не может удовлетворительно разрешить дело, он может быть обжалован ответчиком или обвинителем главе лиги для пересмотра. Если дело еще не решено, оно относится к юань-ли юаню. Также если засаг или глава лиги решает, что дело не может быть решено, они могут направить дело юаню ли-фан. В случаях, когда обвинитель или обвиняемый считают, что засаг или глава лиги несправедливо судят, они могут подать апелляцию на дело [ли-фан] юаню» [7].
Таким образом, апелляционный суд с полномочиями принятия окончательного решения относился к юрисдикции маньчжуров. Существовало строгое административное ограничение, аналогичное обязательной службе в XIII в. Так, если кто-то из одного хошуна совершал преступление в другом, он должен был быть переведен в свой хошун. Если в преступлении участвовали мужчины из разных хошунов, дело рассматривалось «совместной конференцией» официальных лиц хошунов. На территории Монголии дело китайских мужчин не могло быть решено. Там только китайские власти Сянь (районного суда) должны были подать заявку. В случаях, когда в деле участвовали как монголы, так и китайцы, мобилизовалась «совместная конференция» обеих юрисдикций. «В начале династии было установлено, что если люди, живущие в пределах границы [Великая стена] нарушили закон за границей, дело будет рассмотрено в соответствии с законами Совета по наказаниям Китая (Син Син). Живущие за пределами [Великая стена], и нарушившие закон, будут судиться по мон- гольскому закону. Люди Восьми хошунов и люди пастбищ, которые нарушают закон, будут судиться по монгольскому закону» [7, с. 361].
В конце маньчжурского периода монголы утратили свою власть настолько, что китайский суд мог судить монгола при участии монгольского чиновника, в то время как китайца в той же ситуации нужно было передать китайским судам. Так, Джагчид и Хайер пришли к выводу: «Это было отчасти связано с политикой Китая, а отчасти потому, что монгольские чиновники сами отказались от своей юрисдикции» [7].
Согласно закону, монгольские чиновники не имели права выносить приговор о смертной казни. Однако ряд жестоких телесных наказаний все еще осуществлялся до конца 1920-х гг. Самые бесчеловечные методы допроса были введены в конце маньчжурского периода. Их называли «9 пытками», они включали: 1) избиение короткой доской по спине от 1 до 50 ударов; 2) избиение длинным куском доски по спине от 1 до 60 ударов; 3) избиение небольшим кусочком кожи крупного рогатого скота или густым войлоком по лицу от 1 до 40 ударов; 4) связывание рук пропитанной веревкой в течение 2 часов; 5) надевание колючего гравия или дерева с острыми краями, в то время как два человека будут разбивать их деревянной доской, размещенной за коленными суставами;6) висеть с затянутыми большими пальцами, в то время как девять кирпичей внизу будут постепенно вытягивать их один за другим; 7) блокировать руки и ноги в одном куске доски так, чтобы допрашиваемый не мог ни стоять, ни лежать (настолько жестокий метод, что замученные люди едва выживали после этого); 8) жжение большой ароматической палочкой максимум в 7 местах; 9) разбивать ноги мужчин и руки женщин по одному за раз и повторять их еще раз при необходимости (это приводило к постоянной инвалидности). С тех, кто пережил эти пытки, снимали обвинения, но это было редко.
Законы периода автономии: 1911–1921
В этот период часто наблюдалась политическая нестабильность из-за перехода власти от монголов китайцам, белым (царским), красным (коммунистам) русским и т.д. Законы маньчжурского периода все еще применялись, несмотря на провозглашение независимости в 1911 г. Были внесены изменения в систему уголовного наказания. Так, исключены некоторые телесные наказания, включая избиение бамбуком или деревянной доской, но был введен новый метод избиения кнутом. Вместо принудительного труда и изгнания появились тюрьмы с дополнительным избиением. Смертная казнь должна была быть осуществлена путем стрельбы из огнестрельного оружия, вместо пыток до смерти и обезглавливания. «9 пыток» все еще использовались.
Однако вышеприведенные материалы свидетельствуют, что монголы не только перенимали опыт завоеванных народов. Управление налоговыми и бюрократическими механизмами было одним из великих новшеств для монгольских правителей. Наряду с реализацией новых идей, они интересовались великолепием искусства, культуры разных народов. Развитие правовой системы и правового мышления стало повседневной заботой монгольских ханов и чиновников. В то же время покоренные народы приняли идею создания государства, с военной мощью, безупречной дисциплиной, мобильностью, сочетая самодержавие и дипломатию. Правовая система монголов способствовала достижению целей установления единства и порядка в пределах их границ.
Однако монгольские ханы, боясь потерять власть, стали уделять внимание междоусобной борьбе и превратились в государство постоянно «борющихся знамен». Превосходная правовая система, созданная их предшественниками, хорошо служила им в течение 300 лет, но стремление к власти и богатству мешало им объединяться. В результате они были присоединены к другой могущественной империи, и их уникальная правовая система с традициями, уходящими в глубь веков, сохранилась только в исторических хрониках. Политика маньчжуров привела большему разделению монголов, а их закон, известный своей жестокостью, не способствовал развитию их правового сознания и культуры.
В такой ситуации необходимо было создание новой концепции правовой системы, разработанной в совершенно иной цивилизации. Рассмотрим новую систему с ее выдающимися достижениями, и не менее тотальными по своим последствиям ошибками.
Правовая система Монгольской Народной Республики
К началу столетия правовая система Монголии оставалась почти не затронутой внешней цивилизацией, за исключением нескольких законов маньчжурских императоров. Была создана довольно обширная в историческом плане система законов и прецедентов, которая представляет собой уникальную историческую правовую систему в ряду существующих в мире систем. Штейн отмечал: «Даже частные сборники не были официально установлены, но имели квази-официальный статус, а законы, о которых они свидетельствуют, выжили, когда исчезли другие обычаи, которые не были составлены таким образом. Например, так называемое «Саксонское зерцало» [Заксеншпигель], которое сохранилось в коллекции рыцаря XIII в., свидетельствует о живой силе германского обычая, сопротивлении общества романизации. Позже, в Европе в XVI в. это стало общественным движением записывать старые французские обычаи, что обеспечило им «выживание до конца старого режима» [16, с. 246].
С точки зрения Фрома, монгольская традиционная правовая система имела все шансы выжить, на самом деле было несколько попыток навязать маньчжурские законы, но географическое положение Монголии, исторические связи с соседями и сложившаяся в то время экономическая и социальная атмосфера в обществе способствовали резкому изменению направления развития в истории Монголии в целом и правовой истории в частности. Революция 1921 г. и дальнейшие события повлияли на развитие правовой системы и в последующем на реформы права. Точнее, процесс завершился полной отменой одной системы и введением другой, которая была совершенно чуждой и непривычной. Эта система называлась советской правовой, но она уже имела особенности западноевропейской правовой системы, впитав некоторые доктрины марксизма и традиционные русские ценности.
Таким образом, благодаря усилиям ученых-юристов, в том числе бурят-монголов Ринчино и Жамцарано, которые перевели и подготовили для представления властям первые кодексы страны, и русских консультантов, таких как юрист Всевятский, Монголия смогла ознакомиться с многовековыми достижениями западного правового развития и результатами 50-летних поисков и начинаний русских юристов начиная с 1864 г. В связи с этим Гинзбург и Пирс писали: «История Монголии заслуживает внимания просто потому, что она представляет собой одну из первых попыток повстанческого режима сознательно и систематически использовать закон в качестве инструмента, помогающего уничтожить унаследованный примитивный общественно-политический порядок и в короткие сроки заменить его предвзятую модель модернизированных ценностей и отношений. Этот процесс довольно распространен сегодня ..., но Внешняя Монголия остается пионером ХХ в. в этой области» [5, с. 207].
Список литературы История монгольского права
- Бартольд В. Туркестан вплоть до нашествия монголов. СПб., 1958. С. 461.
- Бойл Дж. Э. История мирового завоевателя. Изд. Манчестерского ун-та. Манчестер, 1958. Т. 1. С. 25.
- Вернадский Г. Область применения и содержание Ясы Чингисхана // Гарвардский журнал азиатских исследований. 1938. № 3. С. 359–360.
- Гальперин Чарльз Дж. Татарское иго: образ монголов в средневековой России (Блумингтон, США). Воронеж, 2012. С. 42.
- Гинзбург Джордж, Пирс Ричард А. Революционная реформа права во внешней Монголии: исследование влияния советской правовой доктрины на отсталое общество // Право в Восточной Европе. Сер. публикаций, выпущенных Бюро документации для восточноевропейского права. 1963. № 7. С. 207.
- Даймонд Стэнли. Верховенство закона против обычаев // Social Research. 1971. № 38. Р. 44–45.
- Джагхид Сечин, Хайер Пол. Культура и общество Монголии. 4-е изд. 1959. С. 360–361. 8. Дэндэв Л. Монголын Эрт Эдугегин Хууль Цаазный Туухиин Сэдэв Дэвтэр (Книга истории прошлого и современная юрисдикция Монголии. Улаанбаатар, 1936. С. 41. 9. Карамзин Н. М. История Государства Российского (История Российской империи). 2-е изд. М., 1969. Т. 5. С. 123.
- Лэмбтон Энн К. С. Преемственность и перемены в средневековой Персии: аспекты административной, экономической и социальной истории, XI-XIV век // Bibliotheca Persica. 1988. С. 90.
- Морган Д. О. Великая Яса Чингиз-хана и монгольское право в Ильханате // Бюллетень Школы восточных и африканских исследований. 1986. № 49. С. 173. 12. Филипп М. Чен. Право и правосудие: правовая система в Китае с 2400 г. до н. э. до 1960 г. н. э. Нью-Йорк; Лондон, 1973. С. 8.
- Ходарковский М. Где встретились два мира: российское государство и калмыцкие кочевники (1600-1771). Лондон, 1992. С. 42.
- Чернявский М. Один из аспектов русской средневековой политической теории. Нью-Йорк, 1959. С. 92. 15. Чэнь Пол Хен-чао. Китайская правовая традиция при монголах. Изд. Принстонского ун-та. Принстон, 1979. С. 3.
- Штейн Питер Г. Судья и юрист в гражданском праве: историческая интерпретация // La. L. Rev. 1985. № 46. С. 246.
- Ayalon D. Великая Яса Чингиз-хана: повторное рассмотрение // Studia islamica. 1971. Vol. 33. P. 97–140; 1971. Vol. 34, Р. 80–151; 1972. Vol. 36. Р. 58–113; 1973. Vol. 38. Р. 56–107.
- Sanders J. J. Мусульмане и монголы. Изд. Кентерберийского ун-та. Крайстчерч, 1977. С. 49.
- Stein Peter G. Judge and Jurist // The Civil Law: A Historical Interpretation. 1985. № 46. Р. 245.