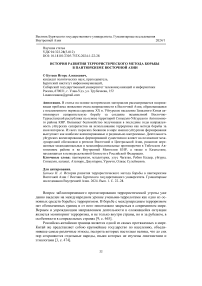История развития террористического метода борьбы в пантюркизме Восточной Азии
Автор: Бутаев И.А.
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе исторических материалов рассматривается назревающая проблема появления очага напряженности в Восточной Азии, образовавшаяся с послевоенного периода середины ХХ в. Уйгурское население Западного Китая активизирует сепаратистскую борьбу за создание независимой ВосточноТуркестанской республики на основе территорий Синьцзян-Уйгурского Автономного района КНР. Вызывает беспокойство получившая в последние годы направленность уйгурских сепаратистов на использование терроризма как метода борьбы за свои интересы. Из всех тюркских боевиков в мире именно уйгурские формирования выступают как наиболее военизированные и радикально настроенные. Деятельность уйгурских военизированных формирований существенно влияет на положение международной обстановки в регионе Восточной и Центральной Азии, разжигая нерешенные межнациональные и межконфессиональные противоречия в Тибетском Автономном районе и во Внутренней Монголии КНР, а также в Казахстане, находящихся в непосредственной близости к Российской Федерации.
Пантюркизм, младотурки, улус чагатая, ребия кадыр, уйгуры, синьцзян, каганат, ататюрк, джунгария, урумчи, олжас сулейменов
Короткий адрес: https://sciup.org/148328391
IDR: 148328391 | УДК: 94:323.28(5-012) | DOI: 10.18101/2305-753X-2024-1-22-28
Текст научной статьи История развития террористического метода борьбы в пантюркизме Восточной Азии
Бутаев И. А. История развития террористического метода борьбы в пантюркизме Восточной Азии // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2024. Вып. 1. С. 22–28.
Вопрос заблаговременного прогнозирования террористической угрозы уже давно выделен на международном уровне учеными-террологами как одно из основных средств борьбы с терроризмом. В борьбе с международным терроризмом нет обозначенных границ и от него невозможно закрыться в современном мире. Верным и упреждающим направлением деятельности в сложившейся ситуации является мониторинг терроризма, и не только внутри страны, но и за рубежом, в особенности в сопредельных странах [9, с. 465].
Российско-китайская граница является одной из самых протяженных в мире. Китай же представляет собою крупнейшее государство по населению, объединившее самые различные этносы, пестрота которых настолько велика, что до сих пор сохраняются отдельные народы, языки которых не изучены лингвистами и этнологами [3, с. 474].
Достаточно крупной семьей в числе национальных меньшинств Китая являются тюркские народы, вошедшие в состав Монгольской империи, как и сам Китай, в XIII в. в период завоеваний на правах улуса Чагатая. Впоследствии в XV в. территория современных тюркских народов Китая была поделена на Джунгарию (западные монголы — ойраты) и Могулистан, находившиеся в постоянной политической зависимости от джунгаров. Как и тюркские народы Средней Азии, вплоть до 1759 г. Маньчжурская империя Цин, завоевавшая к тому времени Корею, Китай, Монголию и вытеснившая джунгаров с Шелкового пути за Иссык-куль и в Дикое поле между Доном и Волгой, осуществила присоединения Джунгарии и Могулистана, получивших общее наименование Синьцзян («Новые земли») [7, с. 152]. После поражения джунгары переселились в Дикое поле, вошедшее позже в состав России, и образовали там калмыцкий народ. Основным этносом в Синьцзяне стали уйгуры.
Уйгуры представляют собой тюркоязычный народ исламского вероисповедания, проживавший до IX в. по течению реки Селенги, но вытесненный кыргы-зами в засушливый Синьцзян. Согласно современной тюркологии уйгуры являются основным центром, вокруг которого образуется восточная ветвь существовавшего в VIII в. тюркского каганата, к ней также относят кыргызов, хакасов, тувинцев, тофаларов, телеутов («белые калмыки»), долган, алтайцев, шорцев, якутов. В свою очередь западную ветвь тюркского каганата составляют турки, азербайджанцы, гагаузы, татары, башкиры, чуваши, казахи, туркмены, узбеки, каракалпаки, карачаевцы, караимы, балкарцы, ногайцы, кумыки [6, с. 475]. Тюркский язык является связующим звеном совершенно разных в расовом, религиозном и культурном отношениях народов. Но следует отметить, что большинство из них мусульмане и процесс распространения ислама в их среде продолжается, что подтверждается недавним признанием ислама основной религией Республики Алтай, открытием мечети в 2006 г. в Якутске1.
Как политическая доктрина пантюркизм оформился в начале XX в. в Турции среди младотурка, осуществивших в 1908 г. революцию. Это учение предусматривает создание Великого Турана, объединяющего все тюркоязычные народы с последующим распространением зоны его влияния и на территории народов ту-ранского происхождения. Вопрос о народах туранского происхождения и границах Великого Турана остается неопределенным, с тех пор как это было выражено в словах младотурецкого лидера Зия Гек Алп (1875–1924 гг.), заявившего, что «Родина не Турция и не Туркестан, родина — великая и вечная страна Туран» [6, с. 475].
Оценивая амбиции пантюркизма и степень его влияния на мировую историю, отметим, что с ним связывают завоевательные походы гуннов и крушение Рима Аттилой, а также Чингисхана и всей монгольской армии. Аттила и Чингисхан рассматриваются как объединяющие тюрков общетюркские лидеры. Евразийские мыслители Трубецкой, Вернадский, Чхеидзе, Бицилли относили к «туранским» народам не только тюрков, но и угрофинов и монголо-маньчжуров [8, с. 28]. Из этого следует заключить, что Туран и «туранские» народы еще бо- лее широкие понятия, объединяющие народы не только по языковому, но и культурному принципу.
Однако после прихода к власти в Турции Мустафы Кемаля (Ататюрк) идеи пантюркизма были забыты. Их возрождение началось в конце 1980-х гг., вызванное развалом Советского Союза, образованием самостоятельных Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и последующим «парадом суверенитетов» в России со стороны Татарстана, Башкортастана, Саха Якутии), Тывы и др. Турция, считающая себя общетюркским лидером, реанимировала именно идею Великого Турана и активизировала пропаганду. Активность Турции не прошла даром, и молодые тюркские народы поспешили заявить о своей общности в 1990 г., создав по инициативе общепризнанного тюркского поэта казахстанца Олжаса Сулейменова Ассамблею тюркских народов (АТН). Съезды АТН имели место также в 1991 и 1993 гг. Для участия в них приглашались все тюркские народы мира [6, с. 476].
Обретение в 1990 г. государственности тюркскими народами Средней Азии на прямую затронули интересы тюркоязычных уйгуров и существенно повлияли на активизацию их борьбы за идею образования Восточно-Туркестанской республики на основе Синьцзяна (КНР). Идея Восточного Туркестана была порождена в период 1920-х гг. и явилась следствием образования союзных советских республик в Средней Азии. В период оккупации Китая в 1930-е гг. войсками Квантунской армии и образования государства Маньчжоу-Го к руководству в Синьцзяне в качестве губернатора приходит военный полковник Шэн Шицай. Политической целью губернатора становится введение Синьцзяна на правах республики в СССР. Но в этот же период Москва активно готовит лидеров КПК во главе с Мао Цзэдуном к проведению масштабных преобразований в Китае. Идеи Шэн Шицай не получают поддержки, а в 1945 г. СССР и образовавшаяся КНР подписывают Договор о дружбе и союзе. В 1949 г., сохраняя надежды на вхождение в состав СССР, все лидеры Восточного Туркестана вылетают в Москву, но при невыясненных обстоятельствах самолет разбивается в горах Тянь-Шаня [4, с. 56]. В 1955 г. КНР официально объявила о создании Синьцзян-Уйгурского автономного района в составе своего государства с центром в г. Урумчи (с монгольского «Молочная пенка»). С этого периода напряженность в Синьцзяне не спадает.
За 70 лет подпольной борьбы уйгурских сепаратистов-пантюркистов тактика действий претерпела существенные изменения. От распространения листовок о мировом величии тюрок, несанкционированного участия ученых в тюркологических научных конференциях за рубежом и организации митингов произошел переход к наступательным и планомерным проведениям терактов боевиками. Изменение тактики осуществлено под влиянием международных террористических центров исламских фундаменталистов. Участие уйгуров на стороне непримиримых моджахедов было отмечено еще в период войны в Афганистане в 1980-х гг. С того времени боевики Восточного Туркестана успели повоевать во всех международных конфликтах с участием мусульман, включая Чеченскую войну в России. Ими приобретен огромный опыт диверсионно-подрывной террористической деятельности, организации и выживания бандподполья в горных условиях, вербовка молодежи и пропаганда идей пантюркизма и исламского фундамента- лизма среди мусульман, использование «живых бомб» смертников. Роль координатора деятельности террористических уйгурских организаций по заявлениям главы администрации СУАР Hyp Берки осуществляет Всемирный уйгурский конгресс и его председатель Ребия Кадыр. Штаб-квартира конгресса базируется в США1. Непосредственное руководство деятельностью сепаратистов находится в руках организации «Исламское движение Восточный Туркестан» во главе с Хасаном Махсумом. В свою очередь его боевым крылом является Туркестанская армия, насчитывавшая еще в период 1990-х гг. более 300 боевиков, и ее лидер Кабар. Помимо указанного, имеется около 40 подпольных негласных организаций, действующих по указанию Туркестанской армии. Большинство лагерей дислоцируется в труднодоступных горных районах Южного Синьцзяна, примыкающих к Тибетскому нагорью, и образовано по подобию лагерей Талибан в Кандагаре, Мазари-Шарифе и Кундузе [10, с. 15].
Активизировавшаяся деятельность уйгурских пантюркистов в Синьцзяне находит прямое продолжение в примыкающих и сопредельных с КНР государствах. Об этом свидетельствуют заявления Союза уйгурской молодежи Казахстана, Объединенного революционного фронта Восточного Туркестана и Уйгурской освободительной организации, по инициативе которых в июле в 2009 г. в Алма-Ате был проведен траурный митинг в память о жертвах трагедии в Урумчи [2, с. 34]. Казахстан включает в себя одну из самых крупных общин этнических уйгуров, численность которой достигает более 300 тысяч человек. Верный подписанным в 1996 г. принципам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе с терроризмом, Казахстан на систематической основе проводит кампанию по противодействию уйгурским пантюркистам. В том же году в ходе массовых столкновений с милицией в пос. Чилик Уйгурского района Алма-Атинской области Казахстана была задержана и выдана КНР группа беженцев из Синьцзяна [2, с. 35]. Подобные акции со стороны властей Казахстана имели место и в последующем, в особенности после незаконного перехода в 1998 г. 2,5 тысячи уйгуров. Получили распространение случаи исчезновения беженцев из Синьцзяна, являющихся пантюркистскими активистами. Председатель Уйгурского культурного центра Республики Казахстан Закир Мамедов считает, что власти страны зажимают уйгурский язык, национальные школы, развитие молодежи. Под видом сокращения вооруженных сил уйгурской молодежи отказано в призыве на срочную службу в армию, а это преграждает мужчинам дальнейший доступ в госструктуры и силовые органы. Свое основное применение в Казахстане уйгуры находят в организации рыночной торговли на крупнейшем в Средней Азии перевалочном алма-атинском базаре, действующем благодаря уйгурским этническим каналам связи с Синьцзяном. В сложившейся ситуации жесткого пресса со стороны властей Казахстана перед пантюркистами Синьцзяна встает вопрос поиска дополнительного базового центра в другой стране, примыкающей к Синьцзяну и имеющей тюркоязычную составляющую. К числу примыкающих относятся Кыргызстан, Монголия и Россия. Однако элементарный социально-политический анализ позволяет исключить Монголию в связи с мало- численностью уйгурской этнической общины и в целом тюркского населения за исключением тех же казахов в западном аймаке Баян-Улгий. Остается Кыргызстан с дунганскими общинами китайцев мусульман и Россия с многочисленными вышеуказанными народами обеих тюркских ветвей.
Мониторинг внешнеполитической обстановки показывает, что ситуация в вопросе деятельности террористических групп пантюркистской направленности в Восточной Азии изменяется. В этой связи в целях национальной безопасности необходима активизация борьбы с терроризмом на данном направлении. Ведь пантюркизм в своей активной идейной форме в сочетании с терроризмом является угрозой именно России, где большая часть национальных регионов и народов как раз-таки и имеет отношение к Великому Турану. Слышны открытые сепаратистские призывы к регионам России со стороны глав государств тюркских стран. В 2003 г. в Баку президент Азербайджана Гейдар Алиев на заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов организации «Тюрксой» заявил, что Татарстан и Башкортостан могут претендовать на независимость: «По численности населения Татарстан, где, кажется, проживает 4 миллиона человек, — это крупная республика. К тому же обладающая мощной экономикой, у нее есть все. Эта республика может быть независимой. Так же и Башкортостан. Разве не так?» [7, с. 477].
В сложившейся ситуации вопрос взаимодействия с КНР в борьбе с пантюркизмом выглядит как никогда актуально. Перспективными и упреждающими являются ранее подписанные международные договоры в рамках ШОС и двусторонний российско-китайский договор 2001 г. о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и неучастии «в каких-либо союзах или блоках... наносящих ущерб другой стороне» (ст. 8). На подписание российско-китайских договоров в 2001 г. многие исламские СМИ тенденциозно отреагировали опубликованием статей о том, что ось между Москвой и Пекином направлена не против Запада, а против мусульман [5, с. 325].
Указанные документы позволили заблаговременно создать правовой механизм двусторонней борьбы не с мусульманами, а с общим международным противником — терроризмом с восточноазиатской спецификой пантюркизма. Ведь цель терроризма — оказать давление на власть для достижения выгодных террористам условий путем страха и насилия над населением. Осуществленный анализ пантюркизма наглядно демонстрирует в его деятельности все криминологически значимые признаки политического терроризма. Ему присущи преследования политических целей, насильственные действия со стороны субъектов политики в лице пантюркистских организаций, использование взрывчатых веществ и оружия, предъявление политических требований властям по изменению государственных границ.
Полагаем, что в данной ситуации нарастания напряженности для совместных упреждающих действий России и Китая приемлема известная старомонгольская формула времен ХIII века: «движемся врозь, сражаемся вместе» [2, с. 118].
Список литературы История развития террористического метода борьбы в пантюркизме Восточной Азии
- Берган Майкл. Империя монголов. Москва: Мир книги, 2007. С. 118. Текст: непосредственный.
- Гришин А. Заложники Синьцзяна // Огонек. 2009. № 10. С. 24-25. Текст: непосредственный.
- Дикарев А. Д. Демографические проблемы национальных меньшинств Китайской Народной Республики. Москва: Восточная литература РАН, 1996. С. 107. Текст: непосредственный. EDN: XYBDNB
- Иванов А. Мы не хотим быть людьми второго сорта. Уйгуры взорвали Китай // Эхо планеты. 2009. № 26. С. 2-3. Текст: непосредственный.
- Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина. Москва: Восток-Запад, 2007. С. 446. Текст: непосредственный. EDN: QIZMKX
- Мирзаян Г. Даешь ханификацию всей страны // Эксперт. 2009. № 27. Текст: непосредственный.
- Папуев В. Б. Монгольские народы. Атлас истории и этнографии. Элиста: Джангар, 2005. С. 152. Текст: непосредственный.
- Побединский В. М. Туранский фактор в культуре России: воззрения евразийцев // Вопросы культурологии. 2007. № 3. С. 32-35. Текст: непосредственный. EDN: KUZAEF
- Устинов В. В. Россия: 10 лет борьбы с международным терроризмом. Москва: Олма, 2008. С. 465. Текст: непосредственный. EDN: QQVYQB
- Чжэн Жуньюй. Китай в борьбе с сепаратизмом и терроризмом // Социальногуманитарные знания. 2008. № 2. С. 328-332. Текст: непосредственный. EDN: MUNFPJ