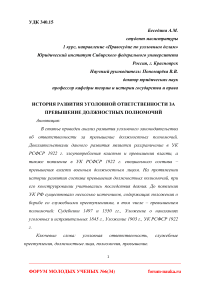История развития уголовной ответственности за превышение должностных полномочий
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ развития уголовного законодательства об ответственности за превышение должностных полномочий. Доказательствами данного развития является разграничение в УК РСФСР 1922 г. злоупотребления властью и превышения власти, а также появление в УК РСФСР 1922 г. специального состава - превышения власти военным должностным лицом. На протяжении истории развития состава превышения должностных полномочий, при его конструировании учитывались последствия деяния. До появления УК РФ существовало несколько источников, содержащих положения о борьбе со служебными преступлениями, в том числе - превышением полномочий: Судебники 1497 и 1550 гг., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уложение 1903 г., УК РСФСР 1922 г.
Уголовная ответственность, служебные преступления, должностные лица, полномочия, превышение
Короткий адрес: https://sciup.org/140286753
IDR: 140286753 | УДК: 340.15
Текст научной статьи История развития уголовной ответственности за превышение должностных полномочий
Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий берет свое начало в судебниках 1497 и 1550 гг. В Судебнике 1550 г. содержались положения о неосторожном вынесении неправосудного решения и об умышленном неправосудии, связанном с взятием посула. Субъектами были «государевы служилые люди».
Впервые термин «превышение власти» был применен к деяниям министров в Общем учреждении министерств 1811 г. Превышением власти назывались случаи, «когда министр, превысив пределы своей власти, постановит что-либо в отмену существующих законов, уставов или учреждений или же собственным своим действием и миновав порядок, для сего установленный, предпишет к исполнению такую меру, которая требует нового закона или постановления»1. В законах «О преступлениях чиновников по службе» 1832 г. это понятие было распространено на всех должностных лиц.
В дореволюционном законодательстве ответственность за служебные преступления регламентировалась Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В нормах-дефинициях содержалось понятие превышения власти и формы ее превышения: «превысившим власть, когда, выступив из пределов и круга действий, которые предписаны ему по его званию, должности, месту или особенному поручению, учинит что-либо в отмену или же вопреки существующих узаконений, учреждений, уставов или данных ему наставлений, или же вопреки установленному порядку предпишет или примет меру, которая не иначе может быть принята, как на основании нового закона, или, присвоив себе права, ему не принадлежащие, самовольно решит какое-либо дело, или же дозволит себе какое-либо действие или распоряжение, на которое нужно было разрешение высшего начальства, не испросив оного надлежащим образом»2.
В законе содержались несколько видов превышения власти: 1) Если последствия действий виновного были не важны, тому выносили замечание, выговор или вычет из служебного времени; 2) Превышение власти без отягчающих обстоятельств грозило отрешением от должности либо исключением из службы, заключением в крепость, а иногда – лишением всех особенных прав со ссылкой; 3) За превышение власти в целях совершения преступления виновного приговаривали к высшей мере наказания.
Следует отметить, что в целом преступления по службе в дореволюционный период определялись как нарушение служебного долга. С объективной стороны превышение власти альтернативно выражалось в расширении предоставленных или присвоении не предоставленных законом служащему прав, совершении законных действий без должного разрешения начальства.
Субъектом превышения власти признавались чиновники, иные должностные лица, лица, состоящие на государственной или общественной службе. Проект нового Уголовного уложения относил к служащим «лиц, ставших ввиду порученного им участия в государственном управлении в особые юридические отношения как к государственной власти, делегировавшей им власть, так и к гражданам, подчиненным управлению». Эти отношения были связаны с наличием у служащих правомочий и обязанностей. Данные критерии свойственны субъекту должностного преступления и на сегодняшний день. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что понятие «служащий» в Уложении 1845 г. легло в основу выделения признаков должностного лица в законодательстве России XX в.3
Уложение 1903 г. дифференцирует ответственность за превышение власти. Квалифицированный состав предусматривает наказание за умышленные деяния, повлекшие существенный вред порядку управления, казенному, общественному или частному интересу или опасности такового, а также за употребление насилия над личностью или угрозы им либо за превышение власти из корыстных побуждений. Ответственность ужесточалась при совершении деяния из корыстных побуждений с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам или появлением опасности такого вреда. По нашему мнению, криминализация деяния в зависимости от его последствий или степени их опасности, а также четкое определение субъекта служат доказательством динамичного развития законодательства о превышении должностных полномочий.
В дореволюционный период правоведы уделяли большое внимание вопросу отграничения служебных преступлений от иных противоправных действий. В этом аспекте привлекает внимание позиция В. Н. Ширяева, который утверждал, что «дисциплинарная провинность не выходит за пределы нарушения служебного долга, должностное преступление всегда предполагает посягательство на правовое благо»3, вследствие чего объектом данного преступления выступают «те правовые блага, распоряжаться которыми должностное лицо может в силу предоставленной ему законом компетенции»4. При этом члены редакционной комиссии указывали на отличие преступных деяний по службе, определяя служебный способ посягательства как «совокупность тех служебных образов и средств, коими обладают органы управления для учинения означенного злоупотребления»5. В этой связи необходимо резюмировать, что превышение и бездействие власти были способами злоупотребления властью, то есть совершения других преступных деяний, но не самостоятельными преступлениями.
В дальнейшем проблема отграничения служебных преступлений нашла свое отражение в работах В. В. Есипова, полагающего, что «преступления эти сохраняют свою самостоятельность, лишь поскольку они не переходят в иные общие или должностные преступные деяния»6. Важно отметить, что в уложениях 1845 и 1903 гг. не было общей нормы о злоупотреблении властью, а к превышению власти относилось и действие по службе, предоставленное законом или поручением, но не вызывавшееся законными основаниями.
Особое значение в свете исследуемого вопроса имеет то, что в российском законодательстве XX в. существовала преемственность в регулировании ответственности за превышение должностных полномочий. В период некодифицированного законодательства (1917-1921 гг.) термин «злоупотребление властью» охватывал должностные преступления в общем. Должностные преступления определялись как использование общественного или административного положения с помощью злоупотребления властью, предоставленной народом. Так, уголовному преследованию подвергались «не только лица, совершающие преступные деяния в момент исполнения ими своих служебных обязанностей, но и совершающие какие-либо преступные деяния с использованием своего положения на советской службе.
УК РСФСР 1922 г. впервые разграничил смежные составы злоупотребления властью и превышения власти, что, на наш взгляд, сыграло значимую роль в дальнейшем развитии уголовного законодательства7. Кроме того, в ст. 106 УК РСФСР (в отличие от
Уложения 1845 г.) не перечислялись определенные формы действий; единственным условием их криминализации был явный выход должностным лицом за пределы своих полномочий. Согласно УК РСФСР, должностными являлись лица, «занимающие постоянные или временные должности в каком-либо государственном (советском) учреждении или предприятии, а также в организации или объединении, имеющем по закону определенные права, обязанности и полномочия в осуществлении хозяйственных, административных, просветительных и других общегосударственных задач».
Появление впоследствии в УК РСФСР 1922 г. специального состава - превышения власти военным должностным лицом - стало, на наш взгляд, еще одним доказательством развития уголовного законодательства в области должностных преступлений.
В УК РСФСР 1926 г. конструкция исследуемого преступления осталась без изменений. В соответствии с ч. 1 ст. под превышением служебных полномочий признавалось «совершение действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных законом совершившему их, при наличии признаков, предусмотренных в предыдущей статье». В научной среде оставались дискуссионными вопросы об объекте и субъекте превышения полномочий, характере действий и форме вины должностного лица. В начале XX в. объектами должностных преступлений признавались: «долг закономерно отправлять службу», «государственная дисциплина», интересы «управления государством и социалистическим хозяйством». Позднее многие специалисты в области уголовного права под объектом этих преступлений понимали отвечающую интересам социалистического и коммунистического строительства работу советского государственного аппарата.
Действие должностного лица признавалось превышением власти или служебных полномочий, если «оно было связано с компетенцией того учреждения, в котором работает данное должностное лицо, или того учреждения, которому оно подведомственно». А. А. Жижиленко выделял следующие формы превышения: когда «виновный расширяет, вопреки закону, права и полномочия, ему предоставленные», «присваивает себе права и полномочия, никакими законами ему не предоставленные» или права, которые «вообще никому не предоставлены», «когда он совершает действия, вообще ему законом предоставленные, но не вызывавшиеся достаточными к тому основаниями», «совершает известные действия без разрешения подлежащей власти»8. А. Эстрин к превышению власти или служебных полномочий относил действия, которые «прямо запрещены законом данному должностному лицу», совершаются «с явным нарушением предписанных законом формы или порядка производства» либо «вне наличия тех обстоятельств, которые в соответствующем кодексе или законе признаны обязательными условиями самой возможности совершения такого рода действий», действия, которые «вовсе не входят в компетенцию данного должностного лица»9.
В юридической литературе существовало мнение, согласно которому превышению служебных полномочий свойственна смешанная форма вины: умысел по отношению к действию и умысел либо неосторожность в отношении наступивших последствий. Ряд ученых допускал неосторожное превышение власти, относя эти действия к дисциплинарным проступкам, что по нашему мнению представляется не совсем верным, т.к. общественная опасность последствий превышения власти диктует необходимость в признании его более тяжким преступлением.
Следует обратить внимание на то, что относительно субъекта должностных преступлений существовало несколько точек зрения, которые можно свести к двум основным: 1) «Всякий служащий является в то же время должностным лицом, как бы ни была незначительна его функция в общей системе государственного устройства»; 2) Круг должностных лиц следует ограничить и признать в качестве основного их признака характер выполняемых функций (организационные, оперативнораспорядительные и административно-хозяйственные)10.
Тенденция к ограничению круга субъектов должностных преступлений послужила началом нового изложения дефиниции должностного лица. Должностными стали называться лица, постоянно или временно осуществлявшие функции представителей власти, а также занимавшие постоянно или временно в государственных или общественных учреждениях, организациях, на предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или выполнявшие такие обязанности в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях по специальному полномочию. Таким образом, критериями выделения должностных лиц из группы служащих стали характер выполняемых функций и обязанностей, временные рамки и место исполнения функций и обязанностей.
Социально-экономические изменения в России диктовали необходимость модернизации уголовного законодательства, в том числе и регламентации ответственности за служебные преступления. В УК РФ 1997 г. разграничена ответственность лиц, исполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и должностных лиц;
-
10 Смелова, С. В. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий / С. В. Смелова // Вестник Московской государственной юридической академии им О. Е. Кутафина. – 2017. – № 12. – С. 33 – 38.
закреплено определение представителя власти. Ключевым нововведением УК РФ стало признание в качестве должностных лиц тех, кто осуществляет организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в ВС РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. В 2007 г. к должностным лицам были отнесены лица, исполняющих перечисленные в прим. 1 ст. 285 УК РФ функции в государственной корпорации11. Также УК РФ 1996 г. изменил и наименование исследуемого преступления: оно стало называться «превышение должностных полномочий» (ст. 286). Квалифицирующими признаками законодатель назвал совершение его лицами, занимающими государственные должности РФ или субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления, применение насилия или угрозы насилием, применение оружия или специальных средств, причинение тяжких последствий.
Так, результаты проведенного нами исследования позволяют сделать выводы о том, что в уголовном законодательстве России, за исключением УК РСФСР 1922 г. в первоначальной редакции, состав превышения должностных полномочий конструировался с учетом последствий деяния. Неизменно со времен Уложения 1845 г. дифференцировалась ответственность за превышение должностных полномочий с применением насилия. Изучение истории развития нормы о превышении должностных полномочий подтверждает, что соответствующие положения УК РФ 1996 г. адекватны современному состоянию и характеру преступности должностных лиц.
Список литературы История развития уголовной ответственности за превышение должностных полномочий
- Голяков, И. Т. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / И. Т. Голяков. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1953. - 464 с.
- Есипов, В. В. Превышение и бездействие власти по русскому праву / В. В. Есипов. - М.: Знание., 1892. - 80 с.
- Жижиленко, А. А. О границе между уголовной и дисциплинарной неправдой по Уголовному кодексу 1922 г. / А. О. Жижиленко // Право и жизнь. - 1925. - № 1. - С. 57 - 63.
- Смелова, С. В. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий / С. В. Смелова // Вестник Московской государственной юридической академии им О. Е. Кутафина. - 2017. - № 12. - С. 33 - 38.
- Смелова, С. В. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий / С. В. Смелова // Вестник Московской государственной юридической академии им О. Е. Кутафина. - 2017. - № 12. - С. 33 - 38.
- Трайнин, А. Н. О должностных преступлениях (Должностное преступление, должностное лицо, соучастие частных лиц в должностных преступлениях и система должностных преступлений по Уголовному Кодексу) / А. Н. Трайнин // Право и Жизнь. - 1924. - № 9. - С. 42 - 50.
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 01.12.2007 N 318-ФЗ (последняя редакция) // СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://consultant.ru
- Черепнин, Л. В. Памятники русского права. Вып. 4 / Л. В. Черепнин. - М.: Инфра-М, 2009. - 233 с.
- Чистяков, О. И. Российское законодательство X-XX веков Т. 6 / О. И. Чистяков. - М.: Кнорус, 2007. - 266 с.
- Ширяев, В. Н. Понятие должностного преступления / В. Н. Ширяев // Юридический вестник. - 1913. - № 3. - С. 92.
- Эстрин, А. Должностные преступления / А. Эстрин. - М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1928. - 108 с.