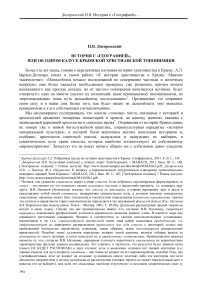История с «географией», или об одном казусе крымской христианской топонимики
Автор: Днепровский Н.В.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Церковная археология
Статья в выпуске: 4, 2012 года.
Бесплатный доступ
В 1773г. русский штурман И. Батурин, составляя карту Ахтиарский (будущей Севастопольской) гавани, нанес на нее пещерную церковь со странным посвящением. Местные жители сообщили, что храм называется, как ему послышалось, «География». В советский период известный археолог Н.И. Репников высказал предположение, что храм, в действительности, был освящен во имя св. Евграфия, и это мнение до сего дня широко распространено среди ученых. Однако Греческая Православная Церковь не знает такого святого, как Евграфий, она знает лишь св. Евграфа. Мы полагаем, что русский мореплаватель записал название в точном соответствии с тем, как он его понял, поскольку он был морским штурманом. Поэтому география была наиболее значимой составляющей его жизни. В то же время он никоим образом не мог знать подлинного слова, произнесенного крымскими греками. Дело в том, что вплоть до настоящего времени иконописец в Греции называется «αγιογραφός» или, во множественном числе, «αγιογραφία». Но в то время это слово не было включено в словари. Между тем, оно созвучно хорошо знакомому моряку русскому слову «география». Пещерная церковь долгое время находилась в запустении, но остатки стенных росписей по-прежнему украшали ее стены. Поэтому название, которое сообщили Батурину («αγιογραφία»), видимо, не было истинным посвящением храма, которое к тому времени было давно забыто. Оно лишь отражало воспоминания об иконописцах, которые расписывали церковь и, возможно, жили в близлежащих пещерных кельях. Именно данную интерпретацию полагает правильной представитель русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне Костас Асимис.
Крым, христианская топонимика, пещерная церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/14118059
IDR: 14118059
Текст научной статьи История с «географией», или об одном казусе крымской христианской топонимики
Более ста лет назад, говоря о перспективах изучения истории христианства в Крыму, А.Л. Бертье-Делагард писал в своей работе «К истории христианства в Крыму. Мнимое тысячелетие»: «Понадобится немало исследований по совершенно частным и мелочным вопросам; еще более окажется необходимым проверить уже решенное, причем немало высказанного как простая догадка, но от частого повторения кажущегося истиною, будет отвергнуто; едва ли многое уцелеет из положений, ныне признаваемых несомненными, но загромождающих лишь путь дальнейшему исследованию»1. Предвидение это сохраняет свою силу и в наши дни. Более того, как будет видно из дальнейшего, оно оказалось применимым и к его собственным умозаключениям.
Мы неоднократно подчеркивали, что многие «темные» места, связанные с историей и археологией крымских пещерных монастырей и храмов, по нашему мнению, связаны с ликвидацией церковной археологии в советское время2. Оторванная от истории Православия, не говоря уже о живой богослужебной практике, социокультурная парадигма «истории материальной культуры», в которой были воспитаны многие поколения историков и, особенно, археологов советской школы, вынуждала и вынуждает их выбирать в семантическом поле такие смыслы, которые наиболее соответствуют их собственному мировосприятию3. Зачастую это не имеет ничего общего ни с событиями давно ушедших эпох, ни даже с современными реалиями. Однако процесс этот начался намного раньше, да и само семантическое поле меняется с течением времени.
В полной мере вышесказанное касается и семантической наполненности географических названий. Еще древние греки любили, как известно, переиначивать услышанные топонимы, да и, вообще, имена. Однако подобные же метаморфозы, в свою очередь, происходили и с греческими названиями, в частности, на территории Крымского полуострова. Одной из таких поистине удивительных смысловых трансформаций и посвящена данная работа.
В 1773 г., составляя описание Ахтиарской бухты, штурман И. Батурин нанес на свою карту совершенно небывалое, не имеющее аналогов в христианской топонимике название: «Храм География»4. Оно относилось к маленькой пещерной церквушке, высеченной в обрыве скалы в верховьях ущелья, впоследствии (по имени владельца построенного там хутора) названного балкой Гайтани. Под этим же названием фигурирует храм и на чертежах Инкерманской экспедиции ГАИМК5.
Разумеется, столь удивительное «посвящение» храма не могла не привлечь внимания ученых. «Вероятно, стоит согласиться с исследователями, считавшими, что в карту вкралась ошибка и церковь была названа в честь Евграфия», – пишет Ю.М. Могаричев6. Под «исследователями» в данном случае следует понимать, главным образом, персонально Н.И. Репникова – руководителя Инкерманской экспедиции ГАИМК и составителя «Материалов к археологической карте Юго-Западного нагорья Крыма»: «Под этим названием он помечен на плане И. Батурина 1773 г., с явной опиской имени, вместо – Евграфий»7. Это же утверждение встречается и в его отчете по исследованию данного храма: «Под этим названием он помечен на первой по времени съемке Инкермана – эскадры Кинсбергена штурмана И. Батурина 1773 г. (Архив Глав. Штаба, по каталогу отд. Х-772). Эта же съемка отмечает еще 3 пещерных храма Инкермана – Софии, Георгия и Вознесения. Совершенно бесспорно, что имена эти не выдуманы И. Батуриным, а получены из расспросов старожилов. Но не менее очевидно, что при передаче на плане имени интересующего нас памятника, произошла описка: он носил имя Евграфия, а не – «География»»8. Таким образом, Н.И. Репников никаких исследований по этому топониму не проводил, для него «описка» была «явной» и «очевидной», а имя «Евграфий» – само собой разумеющимся. Однако еще А.Л. Бертье-Делагард первоначально не сомневался в точности этого названия: «На такое позднее время устройства указывает и сохранение ее названия (св. География) которое показано на карте Батурина, где эта церковь показана вполне ясно и точно; едва ли долго могли помнить название столь маленькой часовенки, если бы в ней не служили не задолго до Батурина а может и в его время»9. Каким образом мог поверить этот ученый-скептик в существование православной святой по имени География и не заглянуть в общедоступную в то время Минею – другой вопрос. Впоследствии, почти через 30 лет, он все же сделал это и, возможно, именно его поздние рассуждения натолкнули Н.И. Репникова на мысль об «очевидной описке». Вот что он пишет в своей работе «Каламита и Феодоро»: «на карте Батурина…, где Инкерман показан очень подробно, в нем и в ближайшем соседстве названы и отмечены церкви: св. Георгия, св. География (на того же времени копии этой карты написано: св. Геоврония, но ни того, ни другого в святцах нет, и надо читать св. Евграфа, произносившееся крымскими греками – Иограф, что наши чертежники обратили в География)…»10.
Однако совершенно неоспоримо, что «обращение» Евграфа (Иографа) в «Географию» или «Геоврония» выходит за рамки «очевидной описки», ибо из шестибуквенного слова получается девятибуквенное . Поэтому такое объяснение можно принять лишь с натяжкой. Очевидно, именно это и заставило Н.И. Репникова поменять «Евграфа» на «Евграфия».
Благодаря Н.И. Репникову и Ю.М. Могаричеву мнение о посвящении храма св. Евграфию в настоящее время является практически всеобщим и встречается как в сугубо научных изданиях, так и в популярных путеводителях. Под этим названием включили данный памятник в одну из своих статей и мы11.
Однако недаром говорят: «Доверяй, но проверяй». Автор настоящей статьи, готовя для церковного издания популярную публикацию о крымских пещерных храмах, решил уточнить день памяти св. Евграфия и отыскать тропарь и кондак в его честь. К нашему изумлению, такого святого в Минее не оказалось. Зато там есть служба (10/23 декабря) святым мученикам Мине, Ермогену и ЕВГРАФУ (рис.1). Вот выдержки из нее:
«Ми́ ну чу́ днаго, Ермоге́ на Боже́ ственнаго, и Евгра́ фа ку́ пно свяще́ нными сладкопе́ нии почти́ м вси́ , я́ ко почествова́ вшия Го́ спода, и страда́ льчествовавшия за него́, и ли́ ка безпло́ тных на Небе́ се́ х дости́ гшия, и чудеса́ точа́ щия».
«Презре́вше сла́ ву мирску́ ю, окрили́ вшеся сла́ вою Боже́ ственною, Ми́ на, Ермоге́ н же и сла́ вный Евгра́ ф, и усе́ рдным нра́ вом тя́ гость претерпе́ ша лю́ тых муче́ ний, пло́ ти не пощаде́ вше».
«Добропе́сненный гла́ с твои́ х слове́с, Ермоге́ на из глубины́ поги́ бели возве́д, поста́ ви на ка́ мени жи́ зни: отону́ дуже и Евгра́ ф, царя́ обличи́ в, ра́ дуяся посека́ ется в сла́ вную главу́ : но приле́ жно моли́ , ми́ но, спасти́ ся все́ м, любо́ вию чту́ щим тя́ ».
«Му́ дростию тверде́ йшею в живу́ щих тебе́ сама́ го написа́ л еси́ кни́ зе, о Евгра́ фе му́ дре: главе́ бо отсе́ ченей, я́ коже на колесни́ цу твое́ ю все́ л еси́ кро́ вию, и к невече́ рнему све́ту преста́ вился еси́ ».
«Взя́ тся ко оби́ телем вселя́ яся светови́ дный му́ чеников ли́ к Боже́ ственный, и предстои́ т Отцу́ , Сы́ ну же и Ду́ ху, наслажда́ яся я́ сно обоже́ ния, Ми́ на со Ермоге́ ном и Евгра́ фом, Богому́ дрии».
Эти же священномученики ( ∆Agioi Mhnav" oj Kallikelado" , Ermogevni" kai; Euvgrafo" ) присутствуют и в греческой богослужебной литературе.
В известной «Православной богословской энциклопедии» под редакцией профессора А.П.Лопухина св. Евграфий также отсутствует и также присутствует только « Евграф (благонаписанный, греч.) – муч. Присутствуя при казни свв. Муч. Мины и Ермона, Е. объявил себя христианином, за что сам царь Максимиан отрубил ему голову (в нач. IV в.). Пам. 10 декабря »12. Именно так писал это имя и А.Л. Бертье-Делагард.
Достаточно зайти в Интернет, чтобы убедиться, что и в наши дни большинство Православных Церквей сохранило греческое написание «Eugrafos» ( Euvgrafo" ).
Откуда же, в таком случае, мог взяться в Инкермане храм, посвященный святому ЕВГРАФИЮ? «St. Eugraphius» – это латинизированная форма написания имени, которая встречается лишь в источниках, восходящих к латинской, а не греческой, традиции и литературе. Так, любителям классических древностей знаком комментатор Теренция Евграфий. Поэтому такое написание не вызывает никакого внутреннего отторжения у исследователей, получивших классическое филологическое образование, а только таким оно и могло быть в советское время. Возможно также, что существование «святого Евграфия» было так легко принято исследователями по аналогии, поскольку существуют святые Евтихий, Евфимий, Евстафий и т.д. Однако эти имена, в отличие от Евграфа, и в греческом оригинале имеют соответствующее окончание ( Eujtuvcio" , Eujfhvmio" , Eujstavqio" ). А вот латинизированное написание «St. Eugraphius» в богослужебной практике бытует лишь у некоторых церквей стран Запада13. Встречается оно также на зарубежных сайтах Армянской Апостольской Церкви.
Однако сохранившиеся описания храма «География» (будем пока называть его так) бесспорно указывают на то, что он был греческим православным, но не католическим и не армянским.
В Крыму с несомненностью можно указать, по крайней мере, на два места, связанных с именем св. Евграфа (но, опять-таки, отнюдь не «Евграфия»). Это пещера Иограф, в которой до начала ХХ в. сохранялись остатки церкви, и одноименный хребет над Ялтой, где она расположена. Как мы помним, А.Л. Бертье-Делагард писал, что имя св. Евграфа, произносилось крымскими греками как «Иограф». Правда, возникает вопрос, откуда ему это было известно – ведь, по его собственным словам, после депортации крымских христиан А.В.Суворовым «обезлюдел и опустел Горный Крым», а христианство «было истреблено окончательно, в корень единоверным народом»14. На этот вопрос он сам же и отвечает на следующей странице: «знаем все это от татарского населения, относительно недавно бывшего еще христианским»15. Поэтому более правдоподобно, что «Иограф» произносили не крымские греки, а крымские татары. При этом следует отметить, что обследовавший эту пещеру в конце XIX века Д.М. Струков писал ее название не через «ио», а через «е с двумя точками» – «…Также на вершине горы Еграф близ Аутки, видел в природной обширной пещере из сталактитов выстроенный алтарь»16. Следовательно, в его время первый звук произносимого топонима был йотированным и очень коротким. Это произношение (« йо ») филологически вполне оправдано. Дифтонг «эу», который в современном русском языке передается как устно, так и письменно в виде сочетания гласной и согласной «ев», в других языках остается дифтонгом, но произносится иначе. Например, « eujgenhv" » дает «Евгения» в русском, «Ойгена» в немецком, «Юджина» = «Йуджина» в английском и т.д., сохраняя при этом исходное написание – «Eugen, Eugene». При этом именно в связи с особенностями произношения топонимов с гласными «е» и «о» крымскими татарами особенно интересно замечание В.П. Бабенчикова: «Принятый в литературе термин «Тепе-кермен» неправилен и является продуктом искажения в свое время татарских слов «топе» и «керман»»17. С учетом изложенного можно утверждать, что исходным названием ялтинской пещеры было «Эуграф»
(« Euvgrafo" »), при быстром произношении местными татарами перешедшее в «Еграф» – «Йограф».
Следовательно, татарская (а отнюдь не греческая) топонимика практически без искажения сохранила посвящение располагавшегося в этой пещере храма св. Евграфу , но при этом существенно изменила произношение этого имени18. Поэтому, если бы И. Батурин беседовал «с местными старожилами»-татарами, никакой «Географии» не могло бы быть и в помине, а, скорее всего, был бы «Йограф». Значит, упомянутый святой тут ни при чем.
К тому же сохранились описания фресковой росписи храма и ее фотографии. Согласно Н.И. Репникову, «главный интерес описываемого памятника заключается в фресковых росписях, уцелевших на стенах под побелками ХХ в. Таковые имеются на потолке и особенно хорошо сохранились в апсиде. В последней из-под побелки усматриваются фигуры восьми святителей в рост (по четыре с каждой стороны престола), на синем фоне в крещатых одеяниях с желтыми нимбами. Надписи имен белою краской»19. Никакого упоминания об изображениях других святых мы не встречаем.
Но откуда же, в таком случае, взял название храма штурман И. Батурин? Если следовать известному принципу Оккама и «не умножать сущностей без необходимости», то наиболее простое и, действительно, очевидное объяснение удивительному топониму на карте И. Батурина состоит в следующем. У нас нет никаких оснований считать, что этот морской офицер допустил оплошность в порученном ему деле – в его профессии ценой любой небрежности могла стать человеческая жизнь. Это косвенно подтверждается и тем, что скрупулезный и скептичный А.Л. Бертье-Делагард, беспощадно критикуя описания предшествующими исследователями Инкермана, Гераклейского полуострова да и всего Юго-Западного Крыма, постоянно отмечает, что «очень подробный и почти совершенно точный план крепости приложен к карте Батурина 1773 года»20, «на карте 1773 г. (Батурина) эта мечеть показана весьма ясно и правильно»21, «эта карта, составленная с большим старанием и, по тому времени, весьма точная, показывает большие подробности к окрестностям Инкермана»22. «Доверять подобным показаниям карты можно», – продолжает он далее, поясняя, что сведения И. Батурина были подтверждены позднейшими донесениями командира другой эскадры, Одинцова, не знавшего о Батурине, в то время как составленная самим Одинцовым карта была намного хуже батуринской23. Считая штурмана «добросовестным свидетелем»24, он был уверен и относительно указанных И. Батуриным названий пещерных церквей, что «все это, конечно, не выдумано им, а добыто из расспросов местных жителей»25. Все это никак не вяжется с представлением о штурмане И. Батурине как о человеке, склонном на той же самой карте делать «явные описки». Поэтому вслед за А.Л. Бертье-Делагардом мы полагаем, что и в данном случае, опрашивая старожилов-греков, он добросовестно, без лишних сомнений записал название церкви именно так, как понял их ответ, со всей прямотой и точностью военного человека: «ГЕОГРАФИЯ»26. Но он его понял в соответствии со своей социокультурной парадигмой: именно география в ее прикладном аспекте – кораблевождении – была делом всей его жизни. И как раз в предположении этой его добросовестности и нашего знания его социокультурной парадигмы мы можем сегодня попытаться реконструировать не то, что было записано, а то, что было произнесено.
А произнесено было, как мы первоначально предположили, очень похожее, но совершенно другое слово, которого не только Батурин, в то время и в силу особенностей своего образования, знать просто не мог, но которое и в наше время и в рамках нашей социокультурной парадигмы употребляется в совершенно ином значении, а потому и не приходило в голову исследователям в данном контексте . Это слово – « АГИОГРАФИЯ »27.
В современном словоупотреблении этим термином обозначают область человеческого знания, относящаяся, главным образом, к житийной литературе. Так, согласно «Православной богословской энциклопедии» А.П. Лопухина, «АГИОГРАФИЯ и АГИОЛОГИЯ (описание святых, – слово, повествование о святых) – все относящееся к жизни, деяниям, почитанию и прославлению святых угодников Божиих в церкви и в церковной жизни и письменности; в более тесном значении, тем и другим названием обозначается тот отдел церковной истории и литературы, который исключительно занимается изучением и рассмотрением житий и жизнеописаний святых и разнородного материала, находящегося в связи с ним (литературно-археологического, историко- литературного, церковно-археологического, литургического и народно-культурного)»28. Современная «Православная энциклопедия» и вовсе дает короткую отсылку: «АГИОГРАФИЯ – см. Житийная литература»29. «Открытая православная интернет-энциклопедия «Древо»» сообщает, что «Агиогра́ фия (от гр. avgio" «святой» и gravfw «пишу»)» – это «научная дисциплина, занимающаяся изучением житий святых, богословскими и историко-церковными аспектами святости»30. Согласно современному академическому словарю, это «историческая дисциплина, изучающая документы и литературные памятники, касающиеся святости и святых. Различают агиографические памятники, повествующие о жизни святых или о святынях, (практическая агиография), и работы, посвященные научному исследованию этих памятников (критическая агиография)»31.
Аналогичный подход проявляет портал БОГОСЛОВ.RU. В публикуемом там очерке по агиографии Э.-М. Тэлбот сказано: «Термин «агиография» (дословно – «писание о святых») имеет много значений. Два основных это: 1) поучительные произведения о жизни и подвигах святых, и 2) научная дисциплина, изучающая святых и связанную с ними литературу»32. О других, «второстепенных», значениях, Э.-М. Тэлбот в данном очерке не упоминает. Понятно, что данный термин никак не связывается в нашем сознании с названием пещерного храма.
Однако это лишь одна смысловая грань данного слова, и в этом смысле данный термин прочно вошел в научный обиход не ранее второй половины XIX столетия33. Достаточно сказать, что в первом томе знаменитого словаря Брокгауза и Ефрона, вышедшем в свет в 1890 г.34, как и в дополнительном томе издания 1905 г.35, статьи под названием « АГИОГРАФИЯ » просто нет. Следовательно, на рубеже XIX–XX столетий, т.е. даже тогда, когда, по утверждению А.Ю. Виноградова, агиография в России переживает расцвет36, сам этот термин все еще оставался знакомым только узкому кругу специалистов и богословов. Если же мы приблизимся на полвека ко времени жизни И. Батурина, то это слово отсутствует даже в знаменитом четырехтомном «Полном греческо-российском словаре» профессора С. Ивашковского, изданном в 1838 г. Там имеется лишь словосочетание « agiovgrafa , tav , т.е. bibliva , святыми мужами писанные книги »37. Как видим, значение этого сочетания обратно применяемому ныне понятию «агиография» («книги, писанные о святых мужах »)38. Причем отечественный словарь вовсе не является исключением: совершенно тождественная ситуация наблюдается, если мы откроем, например, фундаментальный «Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods»: « agiovgrafo" , on , ( gravfw ) written by inspiration . Pseudo- Dion . 376 B, deltoi , the holy Scriptures . 2 . Substantionally, tav agiovgrafa sc. bibliva , a name given to the books of Joshua, Judges, Ruth, Kings and Chronicles. Epiph . III, 244B. Isid. Hisp . 6,1,7, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Canticles, Daniel, Chronicles, Esdras, Esther»39.
Поэтому мы можем с полным основанием утверждать, что плававший еще на полвека ранее (в конце XVIII столетия) штурман и подавно никак не мог знать слова «агиография», поскольку в русском языке в то время его просто не существовало. Зато это слово существовало в языке местных жителей-греков.
Слово «графо» («пишу»), кроме привычного нам, имеет и другой смысл, как и его славянская калька («иконное письмо», «иконопись», «живопись», «писать маслом» и т.д.). Слова «график», «графическое представление», «иконография» и математический термин «граф перехода» ясно очерчивают этот иной смысл. Кроме того, наряду с калькой в виде «письма», в русскую иконопись без перевода перешло греческое слово « графья », означающее контур , или, как говорили в старину, опись изображения. К сожалению, в доступной русскоязычной литературе нам не удалось обнаружить словоупотребления термина «агиография» в контексте создания священных изображений. Однако в современных европейских словарях оно имеется. Так, языковый портал PONS.EU прямо дает перевод слова « agiografiva » на немецкий как «Heiligenbild»40.
Теперь вспомним, что до открытия Т.А. Бобровским и Е.Е. Чуевой церкви с фресками на Загайтанской скале храм «География» имел наиболее сохранные среди всех инкерманских пещерных церквей остатки росписи . Именно росписи, как мы видели выше, считал главной ценностью этого храма Н.И. Репников. Об этом же писали и все другие ученые: ««Описание остатков фресок опубликовали И.И. Толстой и Н.П. Кондаков: «В другой церкви, по закруглению алтарной абсиды еще заметны фигуры восьми святых в рост, от пола до потолка, с венцами, писанными желтой краской, а по сторонам венцов – надписи имен святых белою, фон серый, краски грубые малярные. Над алтарем, в виде запрестольного образа – поясное изображение, вероятно Спасителя. Как у этого изображения, так и у других, уже невозможно разобрать ни ликов, ни цвета одежд, ни надписей видны только отдельные греческие буквы»41.
На основании изложенного мы первоначально предположили, что именно изображения святых и дали условное название храму (« расписанный »), в котором давно уже не происходили богослужения – столь же условное, как скажем, храмы «Успения» или «Донаторов» на Эски-Кермене.
При этом упомянутый нами портал PONS.EU дает и второй перевод слова « agiografiva » на немецкий: «Heiligenbildmalerei», т.е. «художники, специализирующиеся на священных изображениях»42. Однако данная трактовка применительно к названию пещерного храма на тот момент показалась нам несколько «маргинальной».
Своими соображениями мы поделились с К. Асимисом – представителем Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, которому мы, пользуясь случаем, выражаем нашу глубокую признательность за помощь в решении данного вопроса. Обсуждение этого вопроса приняло совершенно неожиданный для нас оборот, поскольку вероятности смысловых значений данного термина в ходе него поменялись, что называется, «с точностью до противоположного».
Выяснилось, что, по сведениям К. Асимиса, как раз для обозначения самих священных изображений термин agiografiva в настоящее время практически не применяется43. Зато К. Асимис подтвердил, что до настоящего времени на Афоне (да и в Греции) художник, специализирующийся на создании священных изображений, действительно, именуется agiogravfo", или, во множественном числе, agiografiva. Это понятие несколько точнее принятого у нас слова «иконописец», поскольку в русском языке под иконой в настоящее время понимают произведение станковой живописи, в то время как греческий термин agiogravfo" подразумевает человека, который может равным образом писать иконы и расписывать храмы.
Действительно, поисковый запрос в Интернете по ключевому слову agiogravfo" незамедлительно выдал большое количество ссылок, в том числе, на адреса и рекламу ныне здравствующих мастеров (рис. 2).
А, учитывая устойчивость православной традиции, логично предположить, что аналогичное словоупотребление было в ходу и у крымских греков в конце XVIII века. Не случайно еще А.Л. Бертье-Делагард относительно записанных Батуриным названий храмов указывал на «большую устойчивость предания, если оно действительно существует, даже при самых неблагоприятных условиях»44.
Таким образом, вопреки нашим первоначальным предположениям, наиболее правдоподобной в итоге оказалась гипотеза, согласно которой подлинное название пещерной церкви в балке Гайтани - «Агиография» в его втором значении . Не будучи действительным посвящением храма , оно является условным и связано вовсе не со «святым Евграфием»45, который в греческой традиции никогда не существовал не только как реальный, но даже как литературный персонаж (как, разумеется, и «св. География») , а с тем, что там работали мастера, создававшие священные изображения – АГИОГРАФЫ . С некоторой натяжкой это название может быть переведено на русский язык как «храм иконописцев» . С гораздо меньшей вероятностью это название все же может быть связано и с наличием самих изображений ( «расписанный изображениями святых» ), поскольку наличие в греческом языке слова, означающего изобразителя без соответствующего однокоренного слова, означающего изображаемое , выглядит несколько парадоксально. Возможно, что слово «агиография» в смысле «священных изображений» все же применялось два столетия назад, но затем приобрело иной смысл и потому в художественном обиходе было заменено другим, более общим термином.
В этой связи возникает и еще одно соображение. Ю.М. Могаричев высказывает предположение о том, что здесь располагался небольшой скит46. Нельзя исключить, что этот небольшой монастырский комплекс или расположенное ниже него на дне балки поселение были обителью иконописцев, а, точнее, « агиографов ». Парадоксальным образом это вполне соответствует мнению А.Л. Бертье-Делагарда о том, что « едва ли долго могли помнить название столь маленькой часовенки, если бы в ней не служили не задолго до Батурина а может и в его время». Его и не помнили. Помнили о тех, кто там жил и работал.
Итак, местные греки сообщили И. Батурину, что это был храм, где работали (или при котором обитали) иконописцы. Однако случилось так, что слово «агиографИя», которое по правилам греческого языка представляет собой существительное мужского рода во множественном числе, по правилам языка русского воспринимается как существительное женского рода в единственном числе. Поэтому сейчас это греческое слово «маскируется» созвучным русифицированным термином «агиография», относящимся к житийной литературе. А во времена Батурина, как мы уже говорили, слов «agiogravfo"» и «agiografiva» в греческо-русских словарях не было вообще. И он, услышав совершенно незнакомое слово и недоразумевая его смысл, интерпретировал его в соответствии со своими профессиональными – географическими – представлениями штурмана.
Теперь мы можем зримо представить себе, как появился на карте И. Батурина храм с единственным в своем роде, не имеющим аналогов «посвящением».
– Что это за церковь? – спросил штурман у встречного грека, указывая на противоположный берег Черной речки.
– Агиа Софиа, – ответил грек.
– Понятно. А там, в ущелье? – не унимался И. Батурин.
– Агиографиа – ответил его собеседник.
– А, «География»? – по-своему переиначил услышанный вопрос моряк. Грек радостно закивал. И штурман без колебаний нанес на карту столь привычное для его слуха, хоть и удивительное для храма название...
А уже в наше время явная абсурдность существования «святой Географии» породила столь же мифического «святого Евграфия». И миф, порожденный этим недоразумением (в буквальным смысле этого слова), до сих пор фигурирует как в популярной, так и в чисто научной литературе.
Однако из всего вышеизложенного очевидным образом следует и то, что мы не вправе предъявлять каких-либо претензий ни штурману И. Батурину, ни А.Л. Бертье-Делагарду, ни Н.И. Репникову с Ю.М. Могаричевым за появление этих двух мифов. Для людей, выросших в России и не владеющих греческим языком на уровне специальной терминологии из области создания священных изображений, вероятность непосредственного распознавания названия инкерманского храма была равна нулю в самом буквальном, математическом смысле этого слова и остается таковой же сегодня , потому что нулевой является уже изначальная, априорная плотность вероятности данного значения данного названия в рамках нашей социокультурной парадигмы. Другими словами, подлинное (хотя и условное) название данного храма – «Агиография», действительно очевидное для православного грека (в силу распространенности там мастеров- агиографов и знания того, как это слово произносится во множественном числе ) – для нашего соотечественника, даже имеющего хорошую научную или богословскую подготовку, до сих пор было неприемлемым , будучи попросту лишено смысла 47. Этот смысл мог быть только привнесен извне48, как это и получилось, в итоге, в нашем случае. Поэтому это название и маскировалось на протяжении столетий другими – субъективно более приемлемыми , а потому казавшимися более правдоподобными . Вместе с тем, этот частный пример наглядно демонстрирует нам всю глубину цивилизационной катастрофы, которой, по крайней мере, в культурологическом аспекте, явился вывод греческого населения из Крыма в конце XVIII столетия – какими бы благими намерениями при этом ни руководствовались организаторы этого исхода.
Резюме

Рис. 1. Святые Мина, Ермоген и Евграф.

Рис. 2. Манолис Пападакис. Иконописец ( agiovgrafo" )
(См.: Religious Painter / .
Список литературы История с «географией», или об одном казусе крымской христианской топонимики
- Бертье-Делагард А.Л. Избранные труды по истории христианства в Крыму. Симферополь, 2011. Т. II. С. 139
- Днепровский Н.В. Культовый комплекс у южных ворот Эски-Кермена.//МАИАСК, 2011. Вып. III. C. 148. [Электронное издание]//Режим доступа: http://www.msusevastopol.net/downloads/MAIASK3.pdf
- Днепровский Н.В., о. Виктор (В.А. Шкурдода). К вопросу о первоначальной литургической планировке триконхиальных пещерных церквей Эски-Кермена//МАИАСК, 2011. Вып. III. С. 187. [Электронное издание]//Режим доступа: http://www.msusevastopol.net/downloads/MAIASK3.pdf.
- Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. Симферополь, 1997. С. 16
- Репников Н.И. Материалы к археологической карте Юго-Западного Нагорья Крыма. Архив ИИМК. Ф.1. Д. 9, 10. С. 40
- Бертье-Делагард А.Л. Избранные труды по истории средневекового Крыма. Симферополь, 2012. Т. III. С. 60
- Днепровский Н.В. Пещерные монастыри Крыма: археологический мартиролог//Могилянськi читання. Зб. Наук. праць. К., 2010. С. 349
- Православная богословская энциклопедия/Под ред. А.П. Лопухина. Т.V. -Донская епархия -Ифика. Пг., 1904. Кол. 192
- St. John The Confessor Orthodox Church [Электронное издание]//Режим доступа: http://www.stjohntheconfessor.com/images/December_2008_9.27.08.pdf
- Струков Д.М. Записки, являющиеся объяснением моделей и рисунков остатков древних жилищ и храмов в Крыму и материалами по составлению научного труда о древне-христианских памятниках Крыма. Рукописный отдел РГБ. Ф. 293. К. 30. Д. 7. Л. 11
- Православная богословская энциклопедия./Под ред. А.П. Лопухина. -Т.I. А -Археалая. Пг., 1900. Кол. 280
- Православная энциклопедия. Том I. А. -Алексий Студит. М., 2000. С. 252.
- Агиография [Электронное издание]//Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/15710.html.
- Агиография [Электронное издание] //Режим доступа: htltp://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5420/АГИОГРАФИЯ.
- Агиография [Электронное издание]//Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/es/text/512806.html.
- Энциклопедический словарь/Под ред. И.Е. Андреевского. Том I. А. -Алтай. СПб., 1890.
- Энциклопедический словарь. Дополнительный том I. -Аа -Вяхирь. СПб., 1905.
- Виноградов А. Два отечественных введения в агиографию [Электронное издание]//Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/smi/38389.htm
- Ивашковский С. Полный греческо-российский словарь, по руководству лучших и известнейших в сем роде образцов, в четырех томах, составленный прежде бывшим профессором, статск. сов. и кавалером Семеном Ивашковским. М., в типографии Августа Семена, при Императорской Медико-хирургической академии. СПб., 1838. Том первый. А-Д. С. 8.
- Sophocles E.A. Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods. New York, 1900. P. 67.
- Виноградов А.Ю., Гайдуков Н.Е., Желтов М.С. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии//РА. 2005. №1. С. 76