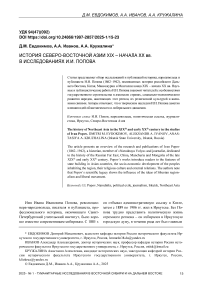История северо-восточной Азии XIX – начала XX вв. в исследованиях И.И. Попова
Автор: Евдокимов Д.М., Иванов А.А., Кружалина А.А.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет обзор исследований и публикаций историка, народовольца и публициста И.И. Попова (1862-1942), посвященных истории российского Дальнего Востока, Китая, Маньчжурии и Монголии конца XIX - начала ХХ вв. Научные и публицистические работы И.И. Попова знакомят читателей с особенностями государственного строительства в азиатских странах, социально-экономического развития народов, населяющих этот регион, их религиозной культурой и внешними связями. Авторы отмечают, что в творческом наследии И.И. Попова заметно влияния идей областнического и либерального движения.
И.и. попов, народовольцы, политическая ссылка, журналистика, иркутск, северо-восточная азия
Короткий адрес: https://sciup.org/170209570
IDR: 170209570 | УДК: 94(47)(092) | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-1/15-23
Текст научной статьи История северо-восточной Азии XIX – начала XX вв. в исследованиях И.И. Попова
Имя Ивана Ивановича Попова, революционера-народовольца, писателя и публициста, профессионального историка, окончившего Санкт-Петербургский учительский институт, было хорошо известно современникам-сибирякам. С 1885 г.
он отбывал административную ссылку в Кяхте, затем с 1889 по 1906 гг. жил в Иркутске. Без Попова трудно представить политическую жизнь огромного региона – он избирался в Иркутскую городскую думу, в течение ряда лет был главным
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВОСТОКА редактором и издателем газеты «Восточное обозрение», последовательно выступавшей за демократизацию страны, был деятельным участником революции 1905 г., отлично знал все проблемы иркутской колонии политических ссыльных. Попов – заметная фигура среди организаторов выставок, библиотек, обществ изучения и просвещения Сибири.
Несмотря на активное участие И.И. Попова в общественно-политической жизни Сибири конца XIX – начала ХХ в., в отечественной журналистике, а после революций 1917 г. – в деятельности Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев, его жизнь и творчество пока исследованы фрагментарно. О нем можно узнать из редких биографических справок в энциклопедических словарях [24; 25; 26]. Ряд публикаций, упоминающих И.И. Попова, посвящен его книгоиздательской деятельности [2; 4; 9; 11; 14; 15; 27]. Несколько подробнее рассмотрено пребывание Ивана Ивановича в сибирской ссылке [7; 6].
Начато изучение научного творчества Попова как исследователя истории леворадикальных политических организаций России второй половины XIX в. [3]. При этом деятельность И.И. Попова в качестве востоковеда, изучавшего историю Сибири, Забайкалья и российского Дальнего Востока, остается на сегодняшний день практически не изученной. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел и охарактеризовать научное наследие И.И. Попова как ученого-историка, внесшего значительный вклад в изучение СевероВосточной Азии на рубеже XIX–XX вв. Источни-ковую базу исследования составляет интеллектуальное наследие И.И. Попова, опубликованное в региональных и столичных периодических изданиях, а также его мемуары.
Прежде всего, нужно сказать, что И.И. Попов был профессиональным историком: в 1882 г. он окончил Санкт-Петербургский учительский институт и непродолжительное время преподавал этот предмет в различных учебных заведениях города. История Дальнего Востока, Северо-Восточной Азии привлекла его внимание уже в Кяхтинской ссылке (1885–1889 гг.): здесь Попов собирает материалы о декабристах, петрашевцах, ссыльных поляках, много сделавших для развития края. Поездка в Петровский Завод приносит ему знакомство с забайкальскими промышленными рабочими и мастерами, в чьих семьях хорошо помнили государственных преступников [7, c. 22–28]. И.И. Попов осматривает сохранившиеся дома при- надлежавшие когда-то «секретным барыням», как звали заводчане жен декабристов, и неоднократно отмечает, как бережно хранили «простые люди» книги, предметы домашнего быта и религиозного культа, оставшиеся от ссыльных. «Декабристы, – резюмирует он, – пробудили в кяхтинцах интерес к политике и общественным вопросам еще тогда, когда вся Россия была погружена в глубокий сон. …Очень много сделали для Забайкалья и оставили по себе глубокую борозду» [17, с. 40, 45].
В Кяхте и Троицкосавске 1880-х гг. политических ссыльных насчитывались единицы. Зато в город регулярно наезжали Д.А. Клеменц, М.А. Кроль (народник, политический ссыльный, исследователь бурятской родовой общины), Г.Н. Потанин и некоторые другие «политики», изучавшие, зачастую совершенно бескорыстно, историю и природу края. Совместными усилиями ссыльных при активном участии И.И. Попова и жившего здесь Н.А. Чарушина в Кяхте сначала была организована общедоступная библиотека, затем – этнографический и естественно-исторический музей, и, наконец, последовало открытие отделения Русского географического общества [17, с. 98, 105].
Живя в Кяхте в окружении «пришлой интеллигенции», И.И. Попов занимался не только изучением наследия декабристов. Именно здесь он впервые почувствовал и непреодолимое влечение к литературной работе, к журналистике. В 1888 г. в «Сибирской газете» была опубликована, по всей видимости, одна из первых его статей периода ссылки под названием «Кяхта и Троицкосавск» [12, с. 8]. Уже в этом материале И.И. Попов выступил и как вполне зрелый публицист, и как весьма наблюдательный исследователь истории российско-монгольских отношений, проследивший основные этапы развития торговли между двумя странами. Позже Попов напишет несколько материалов об истории российско-китайских отношений, специфике и динамике торговых оборотов, первых караванах с чаем, расцвете и упадке Кяхты [5; 13].
С переездом в Иркутск интерес к истории Азии и Дальнего Востока у И.И. Попова не исчез, а скорее усилился. Здесь с 1894 по 1897 гг. Попов занимал должность консерватора музея Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества (ВСО ИРГО). В 1894 г. он подготовил и опубликовал доклад «Открытия на Орхоне и дешифрирование древних надписей», где подробно осветил ход научной экспедиции Н.М. Ядринцева 1889 г. в Монголию, в результате которой были открыты развалины некогда цветущей столицы монголов города Каракорум, сделано множество рисунков с уцелевших настенных фрагментов, а также вывезены каменные обломки с неизвестными науке письменами. Здесь же Попов рассказал и о последующих экспедициях в Каракорум, в которых участвовали В.В. Радлов, Д.А. Клеменц, некоторые политические ссыльные и результаты которых только подтвердили научную ценность открытия Н.М. Ядринцева [16, с. 11–12].
«Все эти исторические данные, – подводил итоги И.И. Попов, – не оставляют никакого сомнения, что открытые в долине Орхона развалины принадлежат тем древним временам, о которых мы находим сведения у европейских и персидских ученых и в китайских летописях. Благодаря ор-хонским открытиям, Средняя Азия приобрела свою историю, которая, как мы убедились, … доходит до глубокой древности. Найденные среди развалин обломки от памятников помогут освещению и уяснению многих вопросов, касающихся этой истории; эти осколки мрамора и гранита, разбитые плиты суть не простые обломки камня, а нечто большее, что может пролить свет на существование города и исторические события: экспедиции сняли на Орхоне немало китайских и монгольских надписей, но особенный интерес для науки представляют так называемые руноподобные письмена, которых вывезено несколько тысяч знаков». И чуть далее следует вывод: «Руноподобные знаки, открытые в Каракоруме и Минусинском крае, принадлежат тюркским народам и много отличаются от настоящих рун, найденных в Скандинавии и Германии» [16, с. 12].
Этот доклад – свидетельство высокого профессионализма И.И. Попова, освоившего в сравнительно короткий срок столь сложный предмет изучения, как история средневековой Северо-Восточной Азии. В 1901 г., участвуя в торжествах по случаю пятидесятилетнего юбилея Восточно-Сибирского отделения, И.И. Попов произнес речь, в которой подчеркнул, что ИРГО всегда ставило своей целью изучение не далеких континентов, но необъятного пространства своей родины, а также сопредельных с ней стран Азии. Само общество Попов назвал «продолжателем дела тех русских, которые еще в XVI в. начали свои исследования по направлению на Восток» [19]. «Россия того времени, – говорит он далее, – являлась новым миром (курсив наш. – Прим. авт.), едва початым научными изысканиями». Россия – особая цивили- зация, новый мир, считает автор, и исследовать ее огромные пространства невозможно без привлечения «научных сил, разбросанных в разных местах нашего отечества» (здесь Попов подразумевает и политических ссыльных, их роль в изучении Сибири). При этом отмечается, что ИРГО, и не оно одно, всегда встречало поддержку у этих бескорыстных, любящих науку людей, «желающих работать на общую пользу, несмотря на все лишения, неудобства и трудности» [19].
Среди прочего Попов был признанным деятелем сибирского просвещения. Став консерватором музея ВСО ИРГО в 1894 г., И.И. Попов прочел свою первую публичную лекцию по истории сибирской этнографии. Ключевой задачей Попова на должности консерватора стала организация выставок и публичных лекций по истории Сибири и ее народов. Так, благодаря инициативности, организаторским способностям и правильной рекламе, Попову удалось значительно увеличить число посетителей музея. Если в 1891 г. музей посетило 5 922 чел., то в 1895 г. – уже 9 980 чел. [8, с. 110]. При Попове лекции по «сибирской» теме стали крайне популярны, а сам музей оказывал значительное влияние на развитие культурного пространства, уровень образования и просвещения в регионе.
Попов, как журналист, не забывал и о сибирских инородцах. Планомерное сокращение их численности, включение в орбиту государственных интересов – финансовых и политических, ассимиляция и миссионерская деятельность – все это влекло за собой фундаментальные изменения бытовых, религиозных и языковых особенностей сибирских народов. Для Попова утрата инородцами своих корней и традиций – главное зло современного индустриального общества. При этом, как отмечал исследователь, якуты, буряты, эвенки, хакасы никогда не станут «нашими», как бы хорошо они не говорили по-русски: «Известно, что истинно-русский патриотизм основан на глубоком презрении к русскому крестьянскому народу и на страхе перед инородцем» [22]. Для Попова же всегда был важен другой посыл: «Истинный патриотизм, а не шовинизм, базируется на вере в духовные силы нации и в ее культурно-историческую миссию» [22]. Это касалось в первую очередь инородцев. Он всячески призывал читателей уважительно относиться к особенностям других народов. Гордость за свой народ, за свою неповторимую культуру, уважение и взаимопомощь – все это сформировало облик многонацио-
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВОСТОКА нального русского государства. Опираясь на эти убеждения, И.И. Попов стремился направить общественное мнение в русло поддержки инородцев, их защиты от прагматичных коммерческих и политических интересов отдельных лиц, классов и государства.
Общественно-политические убеждения И.И. Попова оказали заметное влияние на формирование его научных взглядов. Можно с уверенностью сказать, что в начале своего творческого пути Попов-ученый находился под воздействием народнической идеологии. Он был членом Молодой партии «Народной воли», что предполагало с его стороны оценку исторических явлений через призму основных народнических догматов: неприкосновенность патриархальной крестьянской общины, особый исторический путь России, негативное отношение к капитализму и всему капиталистическому, включая и Транссибирскую железную дорогу. Все эти положения И.И. Попов повторяет в полемике с Л.Б. Красиным, произошедшей в 1895 г. в Иркутске [1; 10], куда Леонид Борисович прибыл в административную ссылку: «В настоящее время на всем беспредельном пространстве Сибири, от Урала до Амура и от китайской границы до Якутской области и северных уездов Енисейской и Тобольской губерний, совершается грандиозная работа создания общины. Исходным пунктом этой эволюции служит первобытная форма пользования землей, заключающая в себе зародыши и индивидуального, и общинного владения; но развитие совершается исключительно в общинном направлении. В Сибири мы видим, как крупные волостные общины разлагаются на более мелкие общины, но они никогда не переходят в чистое подворное владение, и в этом отношении, как и во многих других, капитализм является бессильным изменить эволюцию народного хозяйства в желательную для себя сторону» [20, с. 603].
Тем не менее, отношение И.И. Попова к железной дороге было не таким радикальным, как у большинства народников. Попов безоговорочно признавал ее необходимость для развития Сибири и Дальнего Востока, в частности - для увеличения объемов торговли России и Китая. В газете «Восточное обозрение» он пишет об этом следующим образом: «Рассматривая наш торговый баланс с Китаем, нужно сознаться, что в общем итоге русская торговля с Срединной империей пассивная». Но это «печальное положение» должно измениться с проведением великой сибирской железной дороги: «Русские люди получат возможность переезжать в трехнедельный срок из Москвы в отдаленнейшие порты Китая. … Свежие силы и новые деятели дадут толчок развитию русской торговли на Дальнем Востоке. В Ханькоу и из него направится главная масса грузов и пассажиров» [13, с. 1].
Известно, что И.И. Попов принял самое активное участие в событиях Первой русской революции в Иркутске. Именно Попов привез иркутянам известие о расстреле в Петербурге 9 января демонстрации рабочих, а 22 октября 1905 г. ему был доставлен полученный по правительственному телеграфу текст царского манифеста, который был экстренно отпечатан в типографии газеты и раздавался городским жителям. Попов много сделал для организации самообороны в Иркутске, умудряясь мирить крайне правые правительственные и крайне левые рабочие силы. Однако в январе 1906 г., с объявлением Иркутска на военном положении, «Восточное обозрение» было закрыто, а И.И. Попов бежал из города и уехал за границу, откуда вернулся в 1906 г. уже в Москву.
В Москве И.И. Попов работал в различных газетах, журналах, общественных организациях и союзах. Четыре года состоял председателем правления Общества деятелей периодической печати и литературы, а в 1916 г. непродолжительное время даже был редактором газеты «Русские ведомости», выпустив номера со 138 по 165 [23, с. 137].
За годы ссылки и революции политические идеалы И.И. Попова несколько «поправели» и стали близки к программным установкам партии конституционных демократов. В соответствии с новыми убеждениями менялись и научные представления Попова-историка. Теперь в центре его внимания была не крестьянская община, тем более что сибирский крестьянин, не знавший крепостного права, был совершенно не похож на своего «собрата» по другую сторону Урала, а мир служилой интеллигенции - врачи, учителя, земские служащие, их общественные и партийные объединения, политические программы и лидеры. И.И. Попов самым серьезным образом исследует источники формирования и процессы развития партии конституционных демократов, подвергает анализу программы политических фракций, изучает биографии отдельных лидеров.
Безусловно, И.И. Попов в эти годы - на стороне кадетов. Это хорошо заметно, например, по «Проекту положения о земских учреждениях в Сибири» (1905). Приведем лишь несколько высказываний автора из этого документа: «Земству должно быть предоставлено право законодательной инициативы, равно как право давать отзывы на проектируемые местные законы. Основанием для раскладки земских податей и повинностей должно служить отношение к прогрессивному подоходному налогу. … Прогрессивный подоходный налог является наиболее справедливым среди налогов. … Гласные уездного и волостного земских собраний избираются всеобщей подачей голосов в особых избирательных округах. Порядок избрания нами принят такой же, как во всей Европе. … Настоящее самоуправление возможно только при правовом государственном строе, обладающем всеми гарантиями и свободами» [21, с. 8, 9, 10, 15].
Напряженная общественно-политическая деятельность, гонения и превратности судьбы не смогли заставить И.И. Попова отказаться от занятий историей. В 1906–1916 гг. он помимо «думской» темы много пишет о прошлом и современности Сибири, Дальнего Востока, Северо-Восточной Азии в целом. Так, анализ публикаций И.И. Попова лишь в двух центральных газетах страны – «Столичная молва» и «Русские ведомости» – за 1908–1913 гг. свидетельствует: из 249 опубликованных за этот период статей дальневосточной проблематике было посвящено 58 (23%), что говорит о постоянном интересе автора к этому предмету. Перечислим здесь названия некоторых из этих публикаций, чтобы дать представление об их тематике: «К событиям в Китае» (1908), «Цусима», «На Дальнем Востоке» (1909), «Японцы о войне», «Русско-Японское соглашение» (1910), «Гроза с Востока», «Россия и Китай» (1911), «Правитель независимой Монголии», «В Средней Азии» (1912), «Монгольско-Тибетский вопрос», «Изнанка нашей политики и торговли в Монголии», «Башу Далай Очиров» (1913) и др.
Многолетнее изучение истории Северо-Восточной Азии не могло не привести к закономерному результату: в 1912 г. И.И. Попов издал в Москве большую монографию «От Небесной империи к Серединной республике», посвященную истории Китая, Монголии и Тибета. Это – весьма обстоятельное и цельное научно-популярное изложение истории данного региона, начатое автором с короткого экскурса в тысячелетнее прошлое китайской цивилизации, где Попов определенное место уделил учению Конфуция как основополагающей идеологии, формирующей отношение китайцев к себе, окружающему миру и государству. «Учение Конфуция, – пишет автор, – стало рели- гией ученых и в основу его положено почитание предков и лиц, удостоенных народного почета и государственного чествования» [18, с. 29]. Попов неоднократно подчеркивает и древность китайской цивилизации, с которой не может сравниться «ни одно из государств даже древнего мира» [18, с. 31]. Но в центре внимания автора монографии все же находится история Китая XIX в., а точнее – эпоха правления императрицы Цыси и переломные события начала ХХ в. В проблемно-хронологическом порядке И.И. Попов рассказывает о жестокой борьбе за трон, о последних указах императрицы, о боксерском восстании и его причинах, о революции 1911–1912 гг. и современных китайских лидерах: «Разложение китайской правительственной власти, ее постепенное падение и объединение народных масс против маньчжуров и составляют историю последних 60 лет, особенно последнего десятилетия. Для ниспровержения династии, владевшей Китаем боле 2 ½ в., для изменения государственного строя, сложившегося в течение многих столетий, и даже тысячелетий, достаточно было полвека. И этот переворот назрел и подготовлялся в правление самого талантливого правителя Китая – императрицы Цыси» [18, с. 43].
Несмотря на то, что И.И. Попов высоко оценивает качества Цыси как политика, читателю хорошо заметна его гражданская позиция безоговорочного осуждения «темных сторон» императорского Китая и одобрения Синьхайской революции 1911–1912 гг.: «К 1907 г. Китай раскололся на два враждебных лагеря: китайский народ, отстаивающий свои права и свою самостоятельность, и маньчжуры с Дайцинской династией во главе. … Положение китайской республики безусловно тяжелое; правительству и сторонникам обновленного строя придется пережить еще не мало испытаний и тяжелых, быть может, даже критических моментов. Предстоит продолжительная борьба с анархией, реакцией и взбунтовавшимися войсками, которые не получают жалованья. Отсутствие денег, финансовый кризис – вот больное место молодой республики. Но республиканцы надеются, что им удастся заключит заем, который выведет республику из тяжелого положения. … Как бы пессимисты мрачно не смотрели на будущее Китая, но республиканцы не сомневаются в том, что республика в Китае упрочится, потому что освободительные идеи берут свое начало в седой старине Китая» [18, с. 142, 143].
Книга написана простым, доступным для неподготовленного читателя языком, ее материал
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВОСТОКА последователен и изложен в проблемно-хронологическом ключе, при этом достоверность приводимых сведений, как и выводы автора, не вызывают сомнений. Книга содержит и ценные иллюстрации, часть из них сделана на основе фотографий товарища Попова по Кяхтинской ссылке Н.А. Чарушина. Многие снимки, тщательно подобранные, по всей видимости, самим Поповым, уникальны и нигде более не опубликованы.
Помимо монографии «От Небесной империи к Серединной республике» в издании под одной обложкой помещено также и несколько очерков, рассказывающих о средневековой истории Монголии и народах, ее населяющих, распространении буддизма и ламаизма в Азии, особенностях внешней политики Российской империи конца XIX - начала ХХ вв. в отношении Китая, Маньчжурии и Тибета. Особый интерес представляет публикация, рассказывающая о проекте строительства Трансмонгольской железной дороги через Иркутск, Мысовую на Кяхту, содержащая материалы, неизвестные широкому читателю. В этой и других статьях, носящих в большей мере политологический и историко-публицистический характер, И.И. Попов предстает перед читателем и как журналист-востоковед, и как ученый, и как патриот страны, радеющий о ее благе, и как сибиряк, заботящийся о процветании обширного региона [18, с. 313-322].
В очерке «Тибет и борьба за независимость» И.И. Попов подробно рассказывает о многовековой истории Тибета, религиозной культуре его народа, продолжительной борьбе за суверенитет и независимость от огромного Китая. Интересно описаны отношения тибетцев с Монголией, Индией, Бурятией, попытки Великобритании контролировать этот регион, а также политика России, которая также преследовала здесь свои стратегические интересы. С нескрываемой симпатией пишет И.И. Попов и об Агване Доржиеве, бурятском просветителе и дипломате: «Доржиев до 20 лет прожил в Забайкалье, прошел в одном из дацанов искусы, необходимые для монаха, прекрасно изучил философию ламаизма. ... В 80-х гг. Агван Доржиев вместе с караваном паломников отправился в Лхасу, где в качестве цанита (студента) начал изучать догматику буддизма». Способности Доржиева скоро выдвинули его на заметное место среди лхасских лам. Он проходит все ступени буддистской мудрости и схоластики, получает высшую ученую степень, какой еще не имел ни один бурят или даже монгол. Он, «при- шелец из отдаленной страны», обогнал в своем карьерном росте «тысячи лам» и стал при далай-ламе «первым колунем и ближайшим советником» [18, с. 238-239]. Добавим только, что И.И. Попов наверняка не знал о последующей судьбе А. Дор-жиева, его арестах и смерти в 1938 г. в улан-удэнской тюрьме.
Прочно осев в Москве, И.И. Попов никогда не забывал Сибири, Иркутска и Дальнего Востока. Он живо интересовался «сибирскими вопросами», уделяя постоянное внимание и сибирякам-депутатам Государственной думы, и промышленному, социальному и культурному развитию региона. Так, в одной из статей, содержащейся в упомянутой книге, он писал о необходимости «обновления» Сибири, связывая ее будущее с развитием «народного самоуправления»: «.Не нужно забывать, что возродившийся Китай, утвердивши у себя обновленный строй, пойдет быстрыми шагами по пути культурного и промышленного прогресса и явится серьезным конкурентом на мировом рынке. Это обязывает нас самих заботиться о культурном и экономическом развитии населения, о его самодеятельности не только в центре, но и на окраинах. Необходимо дать толчок этому развитию и колонизации окраин, создать учреждения, например земства, способствующие развитию самодеятельности населения. Пора оставить взгляд на Сибирь, как забытую, обойденную и обходимую страну и уравнять ее в правах с центральной Россией. Наступает момент, когда энергия населения и культурное соревнование России стали необходимы для ее благополучия и процветания не только на Западе, но и в Серединной Азии и на Дальнем Востоке» [18, с. 332].
Подведем некоторые итоги. Народоволец И.И. Попов всегда совмещал активное участие в общественно-политической жизни Сибири конца XIX - начала ХХ вв. с научной деятельностью. Будучи профессиональным историком, Попов уже в Кяхте исследовал некоторые аспекты влияния декабристов на местное общество, распространение ими грамоты и просвещения среди детей и взрослых. Переехав в Иркутск и став консерватором музея ВСО ИРГО, он вплотную столкнулся с задачами научного исследования прошлого Монголии. Наряду с другими членами общества Попов участвовал в снаряжении туда экспедиций, исследовании и описании найденных артефактов. Находясь в Москве, Попов, прежде всего как журналист, продолжил исследование современного состояния русско-монгольских и русско-китайских торгово-экономических связей, посвятив этой теме несколько десятков статей в столичных периодических изданиях. Свой журналистский интерес к Северо-Восточной Азии Попов вскоре стал совмещать с подлинно научным изучением истории данного региона. За короткое время он весьма подробно исследовал особенности государственного строительства в азиатских странах, социально-экономического развития народов, населяющих этот регион, их религиозную культуру и внешние связи. Результатом этих изысканий стало издание в 1912 г. весьма содержательной научной монографии «От Небесной империи к Серединной республике». Ведущими темами публицистических работ И.И. Попова стали история торгово-экономических взаимоотношений Сибири и российского Дальнего Востока с Китаем, Монголией и Маньчжурией, повседневная жизнь и культура коренных народов региона, история изучения русскими этнографами и путешественниками прошлого трансграничных азиатских государств. Анализ статей И.И. Попова свидетельствует о влиянии на автора идей областнического и либерального движения.