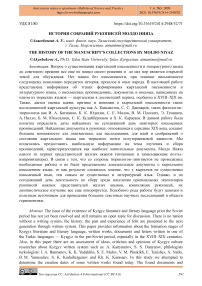История собраний рукописей Молдо Нияза
Автор: Акынбекова Айман Усенбаевна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.
Бесплатный доступ
Вопрос о существовании кыргызской письменности и литературного языка до советского времени все еще не нашел своего решения и до сих пор является открытой темой для обсуждения. Нет нации без письменности, при помощи письменности следующему поколению передается история, прошлое и опыт народа. В настоящей работе представлена информация об этапах формирования кыргызской письменности и литературного языка, о письменных произведениях, документах и письмах, написанных на одном из тюркских языков - кыргызском в досоветский период, особенно в XVIII-XIX вв. Также, дается оценка идеям, критике и мнениям о кыргызской письменности таких исследователей кыргызской культуры как А. Каныметов, С. С. Данияров, таких филологов-тюркологов как И. А. Батманов, К. К. Юдахин, С. Е. Малов, В. М. Плоских, Э. Тенишев, А. Нилло, Б. М. Юнусалиев, С. К. Кудайбергенов и Х. К. Карасаев. В данной работе была попытка определить даты найденных на сегодняшний день некоторых письменных произведений. Найденные документы и рукописи, относящихся к середине XIX века, создают большие возможности для лингвистики, для исследования, для идей и соображений о состоянии кыргызского языка как тюркского почти полуторавековой давности...
Октябрьская революция, кыргызский литературный язык, нация, рукописи, письма, документы, устная литературная поэзия, рукописный фонд, алфавит
Короткий адрес: https://sciup.org/14116031
IDR: 14116031 | УДК: 81/80 | DOI: 10.33619/2414-2948/52/71
Текст научной статьи История собраний рукописей Молдо Нияза
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 81/80
Постановку вопроса о наличии кыргызской письменности и, следовательно, литературного языка до октябрьской революции, можно считать, по меньшей мере, антилогичной и необоснованной. Потому как одним из признаков языковой нормы считается ее объективность, т. е. норма изначально заложена в языке того или иного народа, но имеет разную форму выражения. Несмотря на это бытуют однобокие мнения относительно того, что письменной культуры древних кыргызов по сути не существовало. Например, как утверждает А. Каниметов, кыргызское устное народное творчество включает в себя свыше десяти тысяч эпических произведений, разные ситуации и важные события жизнедеятельности общества передавалось из уст в уста, так как кыргызы не владели письменной грамотой. До октябрьской революции не было ни одной книги или газеты, вышедшей в свет на кыргызском языке, более того вся народная масса была безграмотной [1, с. 290].
Отмечая наличие редких рукописей в начале XIX века, принадлежавших акынам, владевшим письменной грамотой, С. С. Данияров излагает свое мнение о кыргызской письменности следующим образом: «Бытуют необоснованные, неаргументированные мнения местных ученых относительно того, что письменность кыргызского народа до октябрьской революции имела место. Здесь важно разделять понятия письменность и письменный язык. Так как до октябрьской революции тюркские народы Средней Азии и Казахстана и некоторые другие тюркские народы в разной степени адаптировали арабский алфавит к своим языкам, но названный алфавит не отражал фонетических, лексических и других особенностей этих языков. В основном арабской графикой пользовались представители религиозных кругов. Письменная культура была недосягаема для широкой народной массы. В силу отсутствия письменности и как результат этого письменной литературы, основное место в жизни народа занимало богатое по жанру и форме устно– поэтические произведения» [2, с. 60].
Иного взгляда придерживаются ученые–тюркологи по данному вопросу. Например, как было отмечено в свое время И. А. Батмановым, до октябрьской революции у кыргызов была письменность, но эта графика не отражала характерных особенностей кыргызского языка [3, с. 56]. Аналогичные мнения высказывались и другими исследователями. В введении «Русско–кыргызского словаря» К. К. Юдахина говорится, что до Октябрьской революции ограниченное число грамотных кыргызов (их было мало) пользовались очень плохо адаптированным алфавитом и подражали в письме языковым канонам литературного языка, который назывался чагатайским [4, с. 8]. Подобные мнения встречаются и в трудах С. Е. Малова [5, с. 99].
В. М. Плоских и С. К. Кудайбергенов изучив в 1968 г. язык официальных деловых бумаг, отметили, что в дореволюционный период кыргызы, как и многие другие тюркские народы Средней Азии, ограниченное количество деловых бумаг и свои родословия писали с помощью арабского алфавита на староузбекском (чагатайском) языке [5, с. 75]. В 1970 г., изучая в историческом плане кыргызскую орфографию, Х. К. Карасаев приходит к мнению о том, что с первых дней использования кыргызами арабской графики до октябрьской революции помимо деловых бумаг и литературных произведений изданы даже несколько книг [6, с. 73].
В свое время у тюркологов было недостаточно научных фактов и аргументов в пользу доказательства существования кыргызской письменности. И в силу политической атмосферы того времени среди ученых, исследовавших историю культуры кыргызов, бытовали устоявшиеся взгляды касательно отсутствия письменности и письменного языка кыргызов. Не вызывают споров и исторические факты о том, что колониальная политика царской России и местных феодальных правителей была направлена исключительно на эксплуатирование народной массы, никаких мер и действий по развитию культуры местного населения не предусматривалось и не предпринималось. Следовательно, исключались книгопечатание, выпуск газет, обучение в школах на родном языке [7, с. 72].
Следует отметить, что исламская религиозная культура в определенной мере сыграла историческую роль в появлении и становлении кыргызской рукописной литературы, которая берет свое начало с религиозных произведений акынов XIX века (Молдо Нияз (1823–1900), Тоголок Молдо (1860–1942), Молдо Кылыч (1866–1917), Токторалы Талканбаев (1869–1942), Алдаш Молдо (1874–1930), Белек Солтоноев (1878–1937), Шамей Токтобаев (1880–1981), Ысак Шайбеков (1880–1957), Молдо Багыш (1888–1937), Абылкасым Жутакеев (1888–1933), Токтогазы Жусупбеков (1864–1933), Казыбек Мамбетимин (1901–1936). Но произведения вышеотмеченных акынов носили в основном религиозный характер. В силу тоталитарной идеологии их произведения были под запретом, а поэтому многие из них не были объектами исследований, тем более обнародования. Например, произведения некоторых акынов-заманистов (Молдо Нияз, Казыбек, Алдаш Молдо, Молдо Кылыч и др.) преподносились как антинародные произведения. Под влиянием идеологической атмосферы ряд акынов, владеющих письмом (Т. Талканбаев, А. Жутакеев, Тоголок Молдо, Ысак Шайбеков и др.), были вынуждены сознательно подстраивать свое творчество под господствующую в то время идеологию [8, с. 20]. Можно предположить, что после 50-х годов объектами активных исследований были произведения только некоторых (Т. Талканбаев, А. Жутакеев, Тоголок Молдо, Ысак Шайбеков и др.) из вышеупомянутых акынов. Что касается других крупных представителей акынского творчества, таких как Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо, Токтогазы Жусупбек уулу, Молдо Багыш, Ысмаил Сарыбаев и др., то не сохранились не только их рукописи, но даже их биографические данные. Попытки ученых собрать материал об их творчестве и исследовать произведения акынов–заманистов подвергались политическим гонениям и репрессиям. Исследование Тазабека Саманчина о жизни и творчестве яркого представителя акынов–заманистов Молдо Кылыча по своей теоретической ценности и точности литературного анализа стоит у истоков исследований творчества акынов. Но за такое исследование он был репрессирован. Такая потеря, в свою очередь, не могла не сказаться негативно на развитии литературоведения в правильном направлении [8, с. 20].
Следует отметить и роль Болотбека Исабекова, который в течение более чем десяти лет, рискуя жизнью, собирал поэтические произведения Казбека Мамбетимина. В 1986 г. он передал их в фонд рукописей Национальной академии наук Киргизской Республики [9, с. 4]. Наряду со многими акынами особое место занимает Молдо Нияз, произведения которого были посвящены историческим событиям, таким как покорение Чимкента и Ташкента (1865), побег ферганских кыргызов в Сары-Кол от Кудаярхана (1845–1858), кроме этого им были созданы рукописные книги, в которых рассказывается об отношении правителя Кашгара Якуб-бека к кыргызским беженцам. Все упомянутые выше исторические письменные памятники Молдо Нияза в 1950 г. были переданы Б. М. Юнусалиевым в фонд рукописей Национальной академии наук Киргизской Республики, за что ученый подвергся политическим гонениям.
Несмотря на подобные трудности стремления кыргызского народа к духовной культуре, к научным начинаниям, к знаниям полностью отрицают ложные мнения об отсутствии письменности и литературного языка кыргызского народа до Октябрьской революции. В этой связи академик В. В. Виноградов отмечал, что освоение литературного языка тесно связано с освоением самой литературы [3, с. 56]. А по мнению Э. Тенишева, для существования литературного языка необходимо наличие текстов, т. е. совокупность текстов в каком-нибудь конкретном языке определяет богатство литературного языка [10, с. 494]. Если исходить из данного мнения, то подобные тексты издревле существовали в кыргызском языке, так как в составе конфедерации с другими тюркскими народами и кыргызы имели письменную культуру. Например, имеются факты о том, что печатная литография классика тюркской литературы А. Навои (1441–1501) была найдена именно в Кыргызстане. Не вызывают споров и такие очевидные факты, что наряду с другими тюркскими народами кыргызы считаются продолжателями культуры Караханидского государства, более того отдельные письменные памятники без всякого преувеличения имеют мировое значение: Жусуп Баласагын (1069 г.) «Кутадгу билиг», Махмуд Кашгари (1084 г.) «Диван лугат ат-турк». Они поистине являются духовным наследием для тюркских народов, в том числе и кыргызского.
Что касается рукописей XVIII–XIX веков, то к ним можно отнести ряд рукописных текстов, деловых бумаг, писем, к примеру, первое письмо кыргызов Российской империи, написанное Атаке батыром [11, с. 75]. Данное письмо написано арабской графикой 23 августа 1785 г, т. е. это доказывает, что в середине XVIII века кыргызы пользовались арабской письменностью. Более ранний документ был написан в 1847 году, это был дружеский договор между северными кыргызами и Большим Жузом казахов [11, с. 75].
Помимо этого сохранились и другие письма — письмо кыргызского бия Олжобая Акымбека и старшины Мамбета Уметова генералу–губернатору Западной Сибири, написанное 5 августа 1825 г., письмо кыргызского бия Шерали и его сына Алгачы, написанное в Ак-Су на имя генерала–губернатора Западной Сибири 9 апреля 1827 г., а также тексты присяги 1827, 1855 годов племени Бугу, связанные с вхождением их в состав Российской империи [10, с. 499].
В 1930 году Э. Тенишев отметил, что были найдены рукописные тексты в южном Кыргызстане [10, с. 495], в эти же годы А. Нилло указывает на наличие таких же рукописных текстов на Памире [12, с. 5].
Поисками подобных письменных памятников в 50–60 годы занимается Ж. Ш. Шукуров [13, с. 69], а после него непосредственно исследованием рукописных текстов занимаются крупные ученые-языковеды К. К. Юдахин, Б. М. Юнусалиев и Х. К. Карасаев [10].
Что касается печатных текстов, которые несомненно были выражением литературного языка того времени, то в первую очередь упоминаются произведения акынов, которые владели арабской письменностью: «Кысса-и зилзала» («Поэма о землетрясении»), изданная в 1911 году в Казани, спустя два года, т.е. в 1913 году, в Уфе издано произведение под названием «Мухтасар тарих кыргызия» («Краткая история кыргызов»), и в 1914 г. выходит в свет «Тарих кыргыз Шабдания» («История Шабдана кыргыза»). Кроме названных выше произведений были собраны и другие рукописные тексты, к примеру, в 1976 г. на территории южного Кыргызстана обнаруживается грамматический трактат известного поэта и ученого Абдурахмана Жами (1414–1492). В народе были известны и другие произведения Жами, такие, например, как поэма «Нафахат ал-унс», повествовавшая о жизни известных суфиев, и поэма «Силсилат аз-закаб» («Золотая цепь»), посвященная правителю Герата Султану Хусейну Байкара. Эти произведения изданы в 1893 году в Канапуре на фарси [14, с. 91].
Подробнее остановимся на произведениях Молдо Нияза, написанных на южном диалекте кыргызского языка с элементами чагатайского письменного языка.
Относительно рукописей Молдо Нияза высоко отзывался в свое время Б. М. Юунусалиев: «Как письменный памятник эти рукописи бесценны в процессе изучения особенностей кыргызского языка в середине XIX века, в этом смысле данные рукописи имеют огромную историческую значимость» [15, с. 72].
В 1951 г. во время поиска рукописей Молдо Нияза Б. М. Юнусалиев встречает жителя Охны Баита Исманалиева, который рассказал о том, что в недалеком прошлом аильчане собирались, и один из них, кто знал арабский алфавит, читал остальным произведения Молдо Нияза. Стихи акына состояли из трех тетрадей, в которых повествовались события автобиографического характера, т. е. акын рассказывал о тех местах северного Кыргызстана, где он сам побывал, в других же стихах он высмеивал торговцев–спекулянтов. Некоторые старцы были уверены в том, что данная рукопись была оригиналом, по мнению других, тетради были копиями, переходящими из рук в руки [15, с. 178].
Б. М. Юнусалиев с помощью Азиза Токонбаева находит эти тетради и передает в фонд рукописей института языка и литературы Национальной академии наук Киргизской Республики [15, с. 78]. Касательно состояния первой тетради Б. М. Юнусалиев пишет следующее: «Вот перед нами лежит желтоватая толстая тетрадь 18–10 сантиметров. Кожаный переплет, кажется, выдержал испытание временем. Но все-таки края страниц потеряли былую форму, в которых тексты были написаны распространенным в Средней Азии способом письма и черными чернилами, которые со временем стирались. Состоит из тридцати четырех листов, и каждая страница начинается с последнего слова предыдущей страницы, нами было выявлено отсутствие нескольких станиц после 62 страницы. Стихи состоят из семи–восьми строк, на каждой странице находятся по 2–3 стиха, в итоге мы имеем рукопись из 68 страниц, состоящую из свыше 2000 строк. Последняя 68 страница была написана более густыми чернилами, возможно, другим почерком. Нигде в тетради не указаны имя автора либо имя того человека, который переписывал данную рукопись» [16, с. 79].
Вторая рукописная книга Молдо Нияза была взята Сыдыкбаевым Камбарбеком в 1962 г. у муллы Эрмека, жителя Ошской области Кадамжайского района села Кызыл–Булак. Неизвестно, как К. Сыдыкбаев передал данную книгу: собственноручно или через почту. Адрес написан карандашом: Иссык–Кульский район, село Таштак, колхоз 22 партсъезда. И вторая рукописная книга передана в фонд рукописей Б. М. Юнусалиевым [16, с. 7]. На каждой странице второй книги (формат: 17,5×10,5 см.) написаны по 10–11 строк в стихотворной форме, буквы которых были с элементами каллиграфии. Данная книга состоит из 116 страниц, в некоторых местах имеются повторения стихов первой книги. Утеряны страницы в начале и в конце книги [16, с. 11].
Была найдена и третья книга, по этому поводу Аманулло Азимов говорит следующее: «Эта книга осталась от моего отца, который в свое время окончил медресе. А во времена ликбеза он даже работал учителем. Мы из села Бугу Чон–Алайского района. После отец поехал в Узбекистан и жил в селе Миндон, работал чабаном в колхозе. В эти годы он часто ездил к своему свату в Кыргызстан, село Олон–Терек Фрунзенского района. Отец умер в 1980 г. в возрасте восьмидесяти лет. До конца своих дней он никому не показывал, тем более не отдавал эту книгу. Читал в одиночку, иногда давал и мне почитать. Хозяином этой книги был житель Ак-Суу, который умер много лет назад. Отец рассказывал, что сначала книга была у басмачей, после их разгрома книга, переходя из рук в руки, оказалась у него. Честно говоря, после смерти отца я не относился к книге с почтением, как это делал отец. Давал всем, кто просил почитать. Бывало так, что некоторые из них вырывали листы, в которых были понравившиеся им стихи. Я даже на это не обращал внимания. В итоге толстая книга стала тонкой, и в ней осталось тридцать шесть страниц. Отец находит книгу в 1934–35 годах, а я родился в 1942 г. Не помню даже имени хозяина этой книги. Помню, что он живет на побережье реки Ак–Су. Выяснилось, что это село Кызыл–Булак в совхозе Кадамжай Фрунзенского района. Оказывается, отец имел в виду это село. Возможно, хозяин книги жил в этом селе» [16, с. 81].
Данная рукопись передана Аманулло Азимовым директору института языка и литературы А. Эркебаеву, который, в свою очередь, 17 октября 1988 г. передал ее в фонд рукописи под инвентаризационным номером 147 [16, с. 160]. Относительно этой книги О. Сооронов писал следующее: «На каждой странице было написано по два столбика по арабской поэтической традиции. Написаны стихи черными чернилами, общий объем книги составляет 75 страниц. По традиции арабской графики в конце страницы последние слова повторялись дважды. Так как не было нумерации страниц, было очень трудно упорядочить их последовательность. Тем более было очевидно, что некоторые страницы были утеряны» [16, с. 11].
Помимо этого в фонде рукописей находится письмо Молдо Нияза, состоящее из 117 строк под инвентаризационным номером 644, переданное в 1974 году вместе с материалами, собранными С. Закировым, П. Ирисовым и Ж. Мусаевой. Письмо было передано Айдаром Сулаймановым [16, с. 160]. В 1997 г. в 41 номере газеты «Кыргыз руху» Э. Эрматовым опубликованы отрывки из ныне не зарегистрированной в архиве поэмы Молдо Нияза «Дил Шикаста Асий». Э. Эрматов эту находку объясняет следующим образом: «В селе Кок-Талаа проживает Жолон Мамажунусов, который рассказал мне о том, что у него есть стихи Молдо Нияза. Оказывается, он успел еще написать транскрипцию этих стихов на кириллице, которую предложил мне прочесть. Я конечно, обрадовался и спросил об оригинале, на что он ответил, что после юбилея Молдо Нияза он отдал ее младшему брату Иманбеку, как позже выяснилось, он передал А. Эркебаеву. Сразу же по приезду в Бишкек я позвонил А. Эркебаеву насчет рукописи. Он сказал, что рукопись у него дома. Рукопись была переписана по арабскому летоисчислению в 1852 г. муллой по имени Муса. Объем книги составляет 50 страниц. Книга была оставлена родственникам жены Жолона Мамажунусова человеком, которого звали Кашекчал из Каратегина. Спустя годы книга оказалось под подушкой сына Жолона. Оказывается ее передала жене Жолона мать как в наследство и сказала хранить под подушкой сына» [17, с. 8]. Таким образом последние найденные стихи были опубликованы в газете «Кыргыз руху».
По неуточненным данным, четыре рукописные книги акына, возможно, находятся у кыргызов, проживающих в Китае, Узбекистане и Таджикистане [18, с. 77]. Это дает основание считать, что наверняка есть еще не найденные стихи Молдо Нияза. Как отмечено выше, исторические рукописи как духовное наследие должны изучаться с разных аспектов, а их поиски не должны прекращаться. Так как письменные памятники, в частности — если говорить о текстах, написанных в XV–XIX веках, отражают мировоззрение, культурную, религиозную, социальную атмосферу, в которой жили кыргызы той эпохи [4, с. 8]. И это прямое доказательство существования кыргызской письменности и литературного языка в дореволюционный период.
Список литературы История собраний рукописей Молдо Нияза
- Каныметов А. Культура возрожденного к новой жизни киргизского народа. Развитие социалистической культуры в союзных республиках. Бишкек, 1962. 290 с.
- Данияров С. С. Становление киргизской советской культуры (1917-1924). Фрунзе, 1983. 60 с.
- Батманов И. А. Киргизский язык и писменность до образования киргизской нации // Формирование и развитие киргизской социалистической нации. Фрунзе. 1967. 56 с.
- Эркебаев А. О литературном наследии дореволюционного кыргызского народа // Культура Кыргызстана. 1988. №30 (1112).
- Малов Е. С. К истории казахского языка // Известия АН СССР. 1941. №3. С. 99-100.
- Карасаев Х. К. Из истории кыргызской орфографии // Тюркологические исследования: сборник статей, посвященный 80-летию акад. К. К. Юдахина. Фрунзе. 1970. С. 73.
- Юдахин К. К. Итоги и задачи изучения киргизских диалектов // Тр. Ин-та яз. и лит. 1956. Вып. 6. С. 47-54.
- Жунушова Г. Историко-эпистемологическая динамика кыргызской литературной критики // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №6-2.
- Колбаева К. М. Особенности идейно-тематических литературных наследий Казбек акына: автореф дисс.. канд. филол. наук. Бишкек, 2005.
- Тенишев Э. Кыргызы. Т. 2. Бишкек, 1993. 494 с.
- Плоских В. М., Кудайбергенов С. К. Ранние киргизские письменные документы // Известия АН Киргизской ССР. 1968. №4. С. 75.
- Ниалло А. По горным тропам. Памирские путевые заметки. М., 1933. С. 5.
- Шукуров Дж. Ш. Из истории киргизского языка // Труды Института языка литературы и истории. 1952. С. 69-72.
- Маанаев Э., Плоских В. М. На крыше мира. Фрунзе, 1983.
- Юнусалиев Б. М. Отражение диалектных особенностей в санатах Молдо Нияза // Тюркологические исследования: сб. ст., посвящ. 80-летию акад. К. К. Юдахина. Фрунзе, 1970.
- Сооронов О. Молдо Нияз "Санат дигарасттар". Бишкек. 1993.
- Эрматов Э. Нашлись песни Молдо Нияза // Кыргыз руху. 1989. №41. 17-25-мая.
- Акматов О. С. Возрождение духовных ценностей и национальной идеологии, эстетических проблем, этики, в произведениях Молдо Нияза. Бишкек, 1998. 77 с.