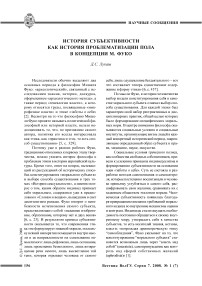История субъективности как история проблематизации пола в концепции М. Фуко
Автор: Лукаш Дарья Сергеевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974172
IDR: 14974172
Текст статьи История субъективности как история проблематизации пола в концепции М. Фуко
Д.С. Лукаш
Исследователи обычно выделяют два основных периода в философии Мишеля Фуко: «археологический», связанный с исследованием знания, истории, дискурса, оформлением «археологического метода», а также период «генеалогии власти», к которому относятся труды, посвященные «микрофизике власти» и этике «заботы о себе» [2]. Несмотря на то что философию Мишеля Фуко принято называть политической философией или историей власти, нельзя недооценивать то, что, по признанию самого автора, политика его всегда интересовала как этика, как «практика и этос, то есть способ существования» [5, с. 329].
Поэтому уже в ранних работах Фуко, традиционно относимых к первому этапу творчества, можно увидеть интерес философа к проблемам этики в истории европейской культуры. Кроме того, ответ на вопрос, вытекающий из рассуждений об исторических способах конституирования «морального субъекта» и выборе способа существования в трех томах «Истории сексуальности», а именно вопрос о том, каким образом индивид признает себя моральным, содержится уже в предисловии к «Словам и вещам», вышедшим в свет десятилетием раньше. Фуко говорит о неизбежности исчезновения самого субъекта, представляющего собой «недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков» [6, с. 23]. И результатом кризиса субъективности оказывается то, что современная этика «не формулирует никакой морали, поскольку всякий императив помещается внутри мысли и ее направленности на схватывание немыслимого: лишь рефлексия, лишь осознание, лишь прояснение безмолвного, лишь возвращение речи немоте, лишь высветление той тени, которая отрывает человека от самого себя, лишь одушевление бездеятельного – вот что составляет теперь единственное содержание и форму этики» [6, с. 457].
По мысли Фуко, в истории человечества выбор модели конституирования себя в качестве морального субъекта означал выбор способа существования. Для каждой эпохи был характерен свой набор рестриктивных и дисциплинарных практик, общей целью которых было формирование специфических моральных норм. В центре внимания философа оказываются социальные условия и социальные институты, организующие жизнь людей в каждый конкретный исторический период, закрепляющие определенный образ субъекта в праве, медицине, науке, искусстве.
Социальные условия греческого полиса, как сообщества свободных собственников, привели к усилению принципа индивидуализма и формированию субъективности на основании идеи «заботы о себе». Суть ее состояла в разработке методов самопознания и самоконтроля, которые постепенно воспитывали в человеке привычку углубляться в самого себя, расшифровывать свои желания, сравнивать их с заданным обществом эталоном морали. Человеческая субъективность появилась благодаря превращению внешних требований морального кодекса во внутренние механизмы оценки и контроля. Индивиды стали ощущать необходимость постоянно обращаться к своему внутреннему миру, утверждать себя в качестве субъектов, то есть носителей знания, истины, власти: «возрождая древнегреческую этику “самообладания”, Фуко указывает на то, что конституирование “морального субъекта” становится возможным лишь через “власть над собой” (encrateia), самопринуждение как контроль над сферой собственных желаний (aphrodisia)» [1].
Конституирование в европейской культуре принципа субъективности и происхождение моральной деятельности Фуко связывает с формированием дискурса сексуальности и представления об «истине пола»: пол постепенно становится областью знания, дискурсом, превращаясь из биологической характеристики человека в социальную – гендер.
Фуко преодолевает устоявшееся мнение о том, что христианство породило традицию подавления пола. По его мнению, постепенное превращение пола и сексуальности в элементы особого властного дискурса началось раньше – христианские идеологи унаследовали идею строгости в отношении пола и жесткого контроля своих желаний от античных мыслителей.
По мысли Фуко, иерархизированная европейская цивилизация всегда обнаруживала стремление регулировать поведение человека и создавала различные техники и процедуры, которые служили для воспитания послушных тел и умов. Изучая исторические тексты, «претендующие на то, чтобы давать правила, мнения, советы, как вести себя должным образом; иначе говоря, тексты “практические”» [4, с. 282], Фуко делает вывод, что эти техники не были основаны не столько на запретах, сколько на предписаниях и инструкциях, побуждающих индивидов к определенным действиям, порождающих новые дискурсивные практики. Поэтому философ ставит перед собой задачу описания истории не в качестве истории подавления, а в качестве «истории этических проблематизаций, которая пишется исходя из практик себя» [там же].
В трудах античных мыслителей Фуко находит описание практик, помогающих людям сформировать для себя определенные правила поведения, сделать свое существование произведением искусства. Атичная мораль поощряла строгость к самому себе, в частности, сексуальную строгость, но этика была отделена от юридической или религиозной систем запретов и нацелена на воспитание стиля и эстетического восприятия жизни своего сознания и тела. Сами по себе действия не являлись моральными, лишь цели, формирующие поведение индивида в целом, характеризовали этическое измерение его суще- ствования. Таким образом, супружеская верность или целомудрие являлись ценными не сами по себе, а как средство достижения душевного спокойствия, гармонии. Этические требования, предъявляемые к половой жизни индивидов, не входили в унифицированный моральный кодекс, они представляли собой своего рода «дополнение» к общепринятым моральным установкам, предназначенным преимущественно для философов и государственных деятелей.
В эпоху становления и расцвета христианства в Европе социальные условия вызвали необходимость создания более универсальных и жестких методов контроля воспитания и поведения людей. Неоднородность европейской цивилизации, расслоение общества, низкий уровнь жизни большинства населения – все эти факторы требовали формирования этики примирения и преклонения перед верховной властью и абсолютными, божественными ценностями. Христианство изменило перспективу оценки этичности существования – теперь каждый поступок соотносился не с жизнью индивида, не с категориями господства – подчинения, возрастания – убывания силы, а с трансцендентным идеалом нравственности, достижение которого и стало основной целью.
Продолжив развивать техники контроля, анализа самого себя, христианство превратило процесс формирования субъективности в технологию, а субъекта в продукт изощренного религиозного воспитания. Постепенно происходила проблематизация представлений о поле, включение феноменов телесности и удовольствия в нормативно-правовой дискурс, регулирующий брак и сферу межличностных отношений. Это означало образование особой «политики пола», призванной не запрещать и подавлять, а «связывать в некую бесконечную спираль принуждение, удовольствие и истину» [3, с. 195]. Основной целью подобной «политики», применяемой первоначально преимущественно церковью, стало превращение пола из биологической неизменной характеристики в механизм изменения индивида. При помощи таких инструментов воспитания, как молитва, исповедь, толкование текстов и наказание, индивид приучался к необходимо- сти постоянного вопрошания самого себя об истине пола, а затем уже и вопрошания пола об истине своего существования. Пол и сексуальность становились элементами властного дискурса, в рамках которого человек был готов добровольно ограничивать собственные права и позволить собой манипулировать ради обретения истины собственного существования и утверждения себя как морального субъекта.
Понятие гендера отражает современную ситуацию абсолютной свободы выбора способа существования, в том числе и выбора пола, который всегда считался судьбой. Бесконечная вариативность предписаний приводит к тому, что индивид не может установить для себя критерии нормы и патологии.
Таким образом, как и прогнозировал М. Фуко, на смену исчезающему субъекту приходит иное «изобретение»: трансформируемый «человек без свойств», с гендером вместо пола, без идеологии и морали. Продемонстрированные Фуко в «Истории сексуальности» последовательные трансформации понятия пола в истории указывают на то, что борьба современности за его «освобождение» очень далека от идеи подлинной свободы, и скорее говорит об отсутствии в обществе ка- ких-либо непринудительных понятий об этичности и смысле существования.
Список литературы История субъективности как история проблематизации пола в концепции М. Фуко
- Зимовец, Р. В. Дискуссия Фуко/Р.В. Зимовец//Хабермас:вопросы теории власти. Режим доступа:http://www.raskopki1.kod.kiev.ua/filtxt4.htm
- Ильин, И.П. Мишель Фуко -историк безумия, сексуальности и власти/И.П. Ильин//Ильин, И.П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. Режим доступа:http://www.philosophy.ru/library/il/3.html
- Фуко, М. Запад и истина пола/М. Фуко//Фуко, М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью/пер. с фр. С.Ч. Офертаса; под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2002.
- Фуко, М. Использование удовольствий/М. Фуко//Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет: пер. с фр. М.: Касталь, 1996.
- Фуко, М. Политика и этика/М. Фуко//Фуко, М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью/пер. с фр. С.Ч. Офертаса; под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2002.
- Фуко, М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук: пер. с фр./М. Фуко. М.: Прогресс, 1977.